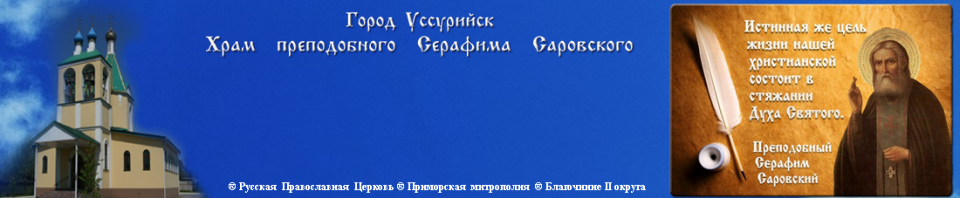С понятием «затвора» нередко соединяется представление, что отец Серафим восшел в высшую степень подвига — уединение. Но можно думать иначе: с видимым затвором в монастыре, собственно, окончилось уединение или пустынножительство, и началось уже служение преподобного миру. Если же первые годы этого подвига он и проводил еще в безмолвии, то они являются, скорее, подготовкой к новому его послушанию — спасению людей.
В самом деле, уже один выход из пустыни и возвращение в многолюдную обитель, хотя бы и в затвор, есть уже вид общения с миром. А жизнь его здесь есть живая, наглядная проповедь и монахам, и богомольцам: своим затворничеством и молчанием отец Серафим учил их спасению подвигам и боголюбию не меньше слов. Во всяком случае его пример здесь, на виду у всех, был более действен и поучителен, чем в далекой пустыне, где он был к тому же отрезан от общения с людьми, за немногими исключениями. А пройдет еще лишь пять лет, и созревший духом Серафим совсем оставит свое уединение и открыто выступит на апостольский подвиг служения людям. И потому нужно думать, что дальней пустынькой закончился второй период его жизни; первый — мирской, был до выхода из киевский богомолья, второй — монашеский, от кельи Досифея до выхода из пустыньки; и третий — апостольский, от затвора до смерти.
Сам преподобный не дерзнул бы, по смирению своему, оставить пустыню и идти на проповедь, учительство и служение. Не захотел бы он оставить и возлюбленного сладкого безмолвияпустыни. Но промысл Божий сам руководит святыми своими.
«Знаю человека, — говорил великий пустынник древности, Макарий Египетский, вероятно, про себя, — который ничего бы не хотел иного, как лишь сидеть в углу пещеры да наслаждаться блаженным созерцанием. Но Бог Сам на время оставляет его, чтобы хоть таким образом, приди и обычное состояние, он мог послужить еще и братиям своим».
Так случилось и с преподобным Серафимом: созревший плод пустыни снимается с древа уединения и полагается пред глазами людей. Но и здесь дается ему еще некоторое время «долежаться», чтобы, умягчившись совсем и достигши последней сладости, быть всецело угодным Господу и приятным для людей.
Таким образом, затвор был для преподобного, с одной стороны, итогом прошлого подвига, а еще более — приготовлением и вступлением и новый период жизни, во вторую половину монашества. А чтобы не было очень резкого перехода от уединения к служению, для этого Господь и выводит Своего любителя безмолвия из пустыни в монастырь, где он некоторое время, по-видимому, продолжает еще прежнюю жизнь, но в самом деле уже начинает исполнять новое служение.
Случилось же это так.
Как мы видели, отец Серафим с ухода своего в молчальничество все реже стал посещать монастырь, и даже редко причащался святых Христовых Тайн.
Кто знает жизнь безмолвников, для того это не удивительно: так поступали многие из них; а преподобная Мария все 47 лет пустынничества ни разу не причащалась после того, как ушла из Иорданской обители св. Иоанна Предтечи; и лишь за час до смерти сподобилась Животворящих Тайн от старца Зосимы.
Сподобляет ли их Господь спасительной сладости Своего общения чрез молитву и созерцания; или они таинственно, некиим «невидимым образом сподобляются причастий чрез Ангела Божия», — как говорил отец Серафим вдове Еропкиной, — сие выше нашего обычного разума и опыта…
А потому не дивно, что братия монастыря стали слушаться… Люди часто недоумевают и даже возмущаются, когда другие поступают иначе, чем они… Стал на их сторону и новый игумен Нифонт… Уже отмечено было, «что он был иного духа, чем отец Серафим. Он отличался способностями к управлению (административными) и опытностью в казначейских делах, наблюдал за точным исполнением богослужебного устава (между прочим, при нем поминальные записи о живых и усопших прочитывались на проскомидии неизменно еще до чтения часов); он оставил по себе память, как способный строитель и украситсль монастыря: строго хранил посты; был трудолюбив, нестяжателен, приветлив в обращении с посетителями обители; начитан в книгах; свободен в слове.
Но при всем этом есть данные думать, что он не был единодушен с отцом Серафимом. Да и не он лишь один. Известный писатель-богомолец Муравьев, посетивший Саров вскоре после смерти святого старца, с благоговением расспрашивал о нем у братии. Каково же было его удивление, когда он в ответ услышал легкомысленно дерзкие и горделивые слова: «У нас все — Серафимы». Чтобы понять это, нужно глубоко уяснить и усвоить учение преподобного, а лучше
сказать — церкви, или Самого Духа Святого, — о сущности христианства и о смысле не только подвигов, но даже и добродетелей… И читатель дальше сам это увидит в дивной, богооткровенной беседе отца Серафима с Н. А. Мотовиловым…
А может быть, и враг зависти смущал игумена: он пришел на 20 лет позднее преподобного(1787 г.) и выбран был в настоятели уже вследствие отказа от этого отца Серафима. Бог весть… Но не видим мы радости у отца Нифонта от общения с чудом, не только Саровским, но и всемирным, — каковым был старец Серафим… Ни одной ласки, ни одного любовного факта…
Это не случайно же… Ведь предшественник его, отец Исаия, так нежно любил святого и чтил его, что даже на тележке возили его к угоднику… Здесь же совсем иное… А между тем старец при его игуменстве прожил 25 лет (1807—1832), и притом наиболее славного своего подвига, чудес, прозорливости… Слава о нем шла уже по всей России; а в дому своем — по слову Писания, — его далеко не все считали пророком (Мф. 13, 57)[1].
Но Господь все направляет во благо «и милость к боящимся Его» (Ис. 102, 11—13; Лк. 1, 50). Так случилось и здесь.
Уставный и закономерный игумен советуется со старейшими братиями монастыря по поводу особливого, но обычного жития пустынника; и они решают: предложить отцу Серафиму, буде он здоров и крепок ногами, по-прежнему ходить в обитель по воскресным и праздничным дням, и причащаться Святых Тайн; если же ноги его уже не служат, то — возвратиться ему в монастырь на всегдашнее жительство в своей келии.
Это решение должен был передать ему брат, носивший пищу, при первом же приходе к нему в пустыньку. Отец Серафим молча выслушал и отпустил его, не промолвив ни единого слова… Решение монастырского собора было столь неожиданным, что оно застало молчальникакак бы врасплох: он привык к послушанию, но есть ли на это Божья воля? должно ли оставлять святое и спасительное безмолвие, если и на него он пошел тоже по благословению святых отцов своих — Иосифа, Пахомия, Исаии? Да и легко ли ему теперь, после 16 лет, оторваться от сладкого безмолвия и возвратиться в обитель?
«У кого, — пишет позднейший безмолвник и затворник епископ Феофан, — образовались «влечение внутрь» и «восхищение к Богу»; особенно у кого «начали действовать совершенное предание себя Богу и непрестанная молитва», удержать такого в общежитии и сожительстве с другими невозможно.
Возлюбившие блаженное безмолвие проходят делание умных сил и подражают их образу жизни. Не насытятся они во веки веков, восхваляя Творца: так и вошедший на небо безмолвия не насытится, воспевая Создателя. Таким образом все занятие безмолвника — быть с Единым Господом, с Коим и беседует он лицом к лицу, как любимцы царя говорят ему на ухо.
При этом такое внутреннее безмолвное делание ограждается и охраняется другим — блюдением безмятежия помыслов»[2] .
…И вот теперь отцу Серафиму предлагают оставить это «блаженное безмолвие», насильно хотят возвратить его снова в «сожительство с другими», поместить опять в молву многолюдного монастыря, посещаемого тысячами паломников…
Какой перелом жизни!.. Это теперь не менее важный или даже более важный и решительный момент для духа преподобного, чем оставление родного крова и любимой матери 32 года тому назад: там все светлое, высокое и увлекающее было впереди; теперь же его, кажется, влекут назад, к низшему, пройденному, почти уже забытому за 16 лет пустыньки…
Что делать?..
И становится понятным поведение святого молчальника: безмолвно он выслушал весть от брата, безмолвно и проводил его, без единого слова…
Значит, этого слова, еще не было в душе преподобного. Послушник в недоумении ушел обратно. А старец, несомненно, обратился к Богу, «лицом к лицу, как любимцы царя говорят ему на ухо». В этом прошла вся неделя…
Привыкший к безусловному послушанию, отец Серафим не мог сойти с этой спасительной для многих стези. Но еще меньше он мог оставить «блаженное безмолвие». Выход он — подобно Григорию Богослову — нашел в среднем пути: он решил жить в монастыре, как бы в пустыне; быть вместе с другими телом, но безмолвствовать духом. Преподобный решил жить в обители — в затворе: так сочетаются и внешнее послушание и внутреннее безмолвие. Лишь увеличится сила подвига, ибо в монастыре хранить безмолвие духа, даже в затворе, будет труднее.
«Есть безмолвие внешнее, — говорит Святой Иоанн Лествичник, — когда кто от всех отделившись, живет один; и есть безмолвие внутреннее, когда кто в духе один с Богом пребывает не напряженно, а свободно, как свободно грудь дышит и глаз видит… Пусть келия безмолвника заключает в себе тело его: а сие последнее имеет в себе храмину разума».
«Безмолвие, — говорит Епископ Феофан Затворник, не всегда есть уединенный образ жития; но непременно бывает состоянием, в коем внутрь собранный и углубленный дух, огнем Духа Божественного возводится к серафимской чистоте и племенению к Богу и в Боге».
Отец Серафим достиг уже этого состояния; и потому ему было безопасно возвратиться в обитель и идти дальше по пути живого богообщения… И казалось, будто в существе ничто не менялось. Но Бог усмотрел лучшее…
…Брат рассказал, как принял его батюшка. Отец настоятель, может быть, узрел в этом молчании признак своей воли, велел послушнику в следующее воскресенье повторить ему решение собора. На этот раз отец Серафим благословил брата и вместе с ним пришел в монастырь. Это было8 мая 1810 года в день тайнозрителя и апостола любви Иоанна Богослова, и в канун великого Чудотворца, Многомилостивого Святителя Николая. Первый сочетал в себе и высочайшее созерцание и нежнейшую любовь к «деткам», «чадцам», «людям» (Иоан. 2, 1; 4, 4.21).
А святителю Николаю, когда он хотел уйти в пустыню, был глас Божий: «Иди в мир, и спасешь душу свою».
Не заходя в келию, отец Серафим направился в больницу; а когда заблаговестили ко всенощному бдению, он пришел в храм…
Весть об этом быстро распространилась среди братии: удивились, но и обрадовались они, что батюшка решился опять жить среди них.
На другой день преподобный причастился Св. Тайн, по обычаю, в больничной церкви; а оттуда направился к отцу игумену Нифонту и получил от него благословение жить в затворе в своей монастырской келий.
Так начался новый монашеский подвиг его, продолжавшийся почти 16 лет. Из них первые пять лет были затвором в полном смысле; а потом батюшка постепенно будет ослаблять его, чтобы служить людям.
Жизнь его и внутренне и внешне проходила приблизительно так же, как и в пустыньке. Разница лишь заключалась в том, что он уже никого решительно не принимал, ни с кем не говорил. Кроме того, он не мог уже по-прежнему заниматься здесь и физическим трудом, уделяя этому лишь малое время. И потому весь и всецело отдался только молитве, богомыслию, чтению Слова Божия и святых Отцов, — освободившись от всяких иных забот и попечений.
«Малый волос смущает око, и малое попечение губит безмолвие», — говорят Святые отцы. И это «безпопечение» и дано было затворнику.
В келий его кроме иконы и обрубка пня не было ничего. Он для себя не употреблял даже огня. Питием его была одна вода; а в пищу он употреблял только толокно да кислую капусту. Все это доставлял ему живший рядом с ним в келий монах отец Павел.
«Затворник, — пишет автор Дивеевской летописи, — чтобы никто не видал его, накрывал себя большим полотном; и взявши блюдо, стоя на коленях как бы принимал пищу из рук Божиих, уносил ее в келию. Там, подкрепивши себя пищею, посуду ставил на прежнее место, опять скрывая лицо свое под полотном (покров, набрасываемыйна лицо[3], объясняется примерами древнейших пустынножителей, которые кукулем скрывали вид свой, «воеже не видети суеты» (Пс. 118, 37). Случалось так, что старец и вовсе не являлся брату; и носивший пищу, опять уносил все, что было предложено: старец оставлял себя без вкушения пищи.
Впоследствии же, когда отец Серафим несколько ослабил строгость затвора и даже сокровенно иногда выходил в лес, то он по временам питался даже одною травою; как об этом сам он поведал потом, уже после затвора дивеевской сестре Прасковье Ивановне, в постриге — монахине Серафиме.
Только что вступив в обитель, она 2 февраля в день Сретения получила от батюшки первое послушание: дважды в один день прийти к нему из Дивеева в Саров и обратно. Это составляло около 50 верст. Смутилась сестра; но убежденная старцем, поступила по повелению его. Встретив ее в первый раз после ранней обедни, батюшка весело отворил ей дверь со словами: «радость моя»; потом, посадив ее отдохнуть, подкрепил частицами просфоры и святою водою и отослал обратно с большим мешком толокна и сухарей для обители. К вечерне она пришла во второй раз.
— Гряди, гряди, радость моя! — с восторгом приветствовал ее отец Серафим. — Вот я накормлю своею пищею.
И поставил перед нею большое блюдо пареной капусты с соком. Когда она начала есть, то ощутила необыкновенный вкус. В другой раз он велел ей работать в лесу и собирать дрова.
«Часу в третьем, — рассказывается в записи, — он сам захотел поесть и говорит:
— Поди-ка матушка, в пустыньку: там у меня на веревочке висит кусочек хлеба, принеси его.
Сестра принесла. Батюшка посолил хлеб, помочил его в холодной воде и начал кушать. А часть он отложил сестре Прасковье; но она не могла даже разжевать его, — так он засох и зачерствел. И подумала: какое лишение терпит батюшка! А он прозрел ее мысль и сказал:
— Это, матушка, еще хлеб насущный! А когда я был в затворе, то питался зелием: траву снить обливал горячей водою, так и вкушал; это пустынная пища, и вы ее вкушайте».
Незадолго перед кончиной преподобный подробнее рассказал о своем постничестве.
«Я сам себе готовил кушанье из снитки: я рвал ее да в горшочек клал; немного вольешь, бывало, в него водицы и поставишь в печку — славное выходило кушанье».
Я спросила его о снитке: что это значит? За притчу ли это принять, или это действительное?
Он ответил:
«Экая ты какая! Разве не знаешь травы снить? Я это тебе говорю о самом себе. Я сам это себе готовил кушанье из снитки».
Я спросила его: как зиму он ее кушал и где брал? Он ответил:
«Экая ты какая! на зиму я снитку сушил; и этим одним питался. А братия удивлялись: чем я питался? А я снитку ел… И о сем я братии не открывал, а тебе сказал».
Нес преподобный и другие подвиги. Спал он мало. Сколько именно, не знаем; но, конечно, не более того, чтобы лишь не повредить «другу» — плоти в ее служении духу. Если он говорит, что даже и начале своего монашества спал четыре часа ночью (от 10 вечера до начала 2 утра), то теперь, можно думать, он отдавал сну еще меньше, только бы «не повредить головен». Все это, к сожалению, покрыто тайною…
Предавался ли затворник каким-либо иным чрезвычайным формам лишений и изнурения тела, — неизвестно. Есть предание, о коем рассказывается в житии его дивеевского издания, будто он тайно носил и вериги тяжестью в 20 фунтов на груди и 8 — сзади, и железный пояс; что еще более пригибало к земле его сгорбленную фигуру. И будто в морозное время он под железо подкладывал чулок или тряпку.
Но это точно не удостоверено. Таких вериг не осталось нигде. А по словам Саровских старцев, отец Серафим носил в затворе на груди большой пятивершковый крест на веревке. Вероятно, это и дало основание говорить о веригах. Во всяком случае известно, что другим он впоследствии не советовал чрезмерных внешних подвигов. Вместо этого заповедовал духовную борьбу над собой и над своими душевными страстями.
Однажды — это было много лет позднее — к преподобному пришел какой-то босой странник из Киева, сопровождаемый саровским послушником. Старец в это время жал голыми руками осоку. Тотчас он велел привести странника. Благословив его и посадив обоих гостей возле себя, прозорливый отец Серафим сразу стал советовать босому посетителю оставить избранный им путь: прекратить богомоление, обуться и снять с себя вериги… А их под одеждою странника совсем не было видно… И нужно возвратиться домой: там ждут и тоскуют по нем жена, мать и дети.
— Мню, — добавил отец Серафим, — что весьма хорошо торговать-то хлебом; у меня же есть знакомый купец в Ельце: тебе стоит только прийти к нему поклониться и сказать, что тебя прислал к нему убогий Серафим: он тебя и примет в приказчики».
Наставив еще странника, преподобный отпустил его с любовью.
На обратной дороге в монастырь богомолец открыл послушнику, что все так и было, как сказал прозорливый старец: прежде он занимался хлебною торговлею, потом, из любви к Богу, но без благословения, решил бросим, семью, выхлопотал годовой паспорт, надел вериги, скинул обут, и босиком начал ходить по монастырям, думая этим угодить Богу. Теперь он, без сомнении, узрел неправоту свою и послушается заповедей святого старца.
Послушник Иоанн (Тихонов) рассказывал про себя, что долгое время мечтал о ношении вериг для умерщвления тела; и наконец достал их; но пошел сначала к отцу Серафиму. Великий старец, увидев его, прозрел тщеславное намерение неопытного книжника, начитавшегося житий, и, улыбнувшись, сказал, прежде чем тот раскрыл уста:
— Вот что я скажу тебе: приходят ко мне дивеевские младенцы и просят моего совета и благословения: одни носить вериги, а другие — власяницы; но как ты думаешь, по дороге ли их дорога та? Скажи мне.
Ничего не понимая, послушник ответил:
— Я, батюшка, не знаю.
Отец Серафим повторил вопрос. Тогда тот уже догадался, что прозорливый старец о нем-то и говорит, и попросил у него благословения на вериги.
— Как же ты не понимаешь? Ведь я тебе об этом-то и говорю, — сказал отец Серафим. И далее объясняет недоразумение и бесполезность этого подвига для таких неустроенных людей.
«Многие из святых отцов носили вериги и власяницу: но они были мужи мудрые и совершенные; и все это делали из любви Божией, для совершенного умерщвления плоти и страстей и покорения их духу. Но младенцы, у которых царствуют в теле страсти, противящиеся воле и закону Божию, не могут этого делать. Что в том, что наденем и вериги и власяницу; а будем спать и пить и есть столько, сколько нам хочется… Мы не можем и самомалейшего оскорбления от брата перенести великодушно. От начальнического же слова и выговора впадаем в совершенное уныние и отчаяние; так что и в другой монастырь выходим мыслию; и с завистию указывая на других своих собратий, которые в милости и доверенности у начальника, принимаем все его распоряжения за обиду, за невнимание и недоброжелательство к себе. Из этого рассуди сам: как мало или вовсе нет в нас никакого фундамента к монашеской жизни; и это все от того, что мы мало очень рассуждаем и внимаем ей».
Обличенный послушник вериг не стал носить; но из монастыря Саровского все же ушел после. Фундамента не оказалось, то есть послушания.
Впрочем, известен случай, когда отец Серафим благословил пустыннице Анастасии Логачевой, в иночестве Афанасии, носить и вериги для усмирения плотских похотей, когда ей было всего лишь около 23 лет. Она была потом основательницей женской Курихинской общины Нижегородской губернии.
А обыкновенно отец Серафим советовал вместо подвигов понуждение и упражнение в добрых делах. Вот что он сказал одному мирянину, который тайно думал о Киеве:
«Укоряют — не укоряй; гонят — терпи; хулят — хвали; осуждай сам себя, так Бог не осудит; покоряй волю свою воле Божьей; никогда не льсти; люби ближнего твоего: ближний твой — плоть твоя. Если по плоти поживешь, то и душу и плоть погубишь, а если — по Божьему, обеих спасешь. Это подвиги — больше, чем в Киев идти или и далее».
Занятие Словом Божиим во время затвора естественно было увеличено; так как труд нести было невозможно, и, следовательно, оставалось свободное от молитв время.
«Вот я, убогий Серафим, — поведал он некоторым после, — прохожу Евангелие ежедневно: в понедельник читаю от Матфея от начала до конца; во вторник — от Марка; в среду — от Луки; в четверг— от Иоанна, в последние же дни разделяю Деяния и Послания Апостольские; и ни одного дня не пропускаю, чтоб не прочитать Евангелия и апостола дневного и Святому. Чрез это не только душа моя, но и самое тело услаждается и оживотворяется от того, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и страдание Его; и день и ночь славословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все Его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне, недостойному».
Этого правила он держался и впоследствии.
Читая Священное Писание, отец Серафим иногда вслух толковал Евангелие и Послания. Через дверь можно было даже слышать это; и тогда братия и богомольцы подходили и услаждались его объяснениями.
А иногда неожиданно наступало молчание; не слышно было даже переворачивания листов. — Святой затворник погружался в созерцание написанного.
В один из таких моментов он сподобился чрезвычайного восхищения, совершенно подобного тому, о коем пишет и Святой Апостол Павел (2 Кор. 12, 1—5). Об этом событии отец Серафим поведал нескольким людям. Вот как записал один из них, послушник Иоанн (Тихонов).
«Сначала преподобный долго говорил о святых пророках, апостолах, мучениках и преподобных, — о их вере, подвигах, крестоношении, чудесах; и как они исполнением заповедей обрели благодать Святого Духа».
«Исполнение заповедей Христовых, — говорил он, — есть бремя четкое, как сказал Сам Спаситель наш; только нужно всегда иметь их и памяти; а для этого нужно иметь в уме и на устах молитву Иисусову, а пред очами представлять жизнь и страдание Господа нашего Иисуса Христа, который из любви к роду человеческому пострадал до смерти крестной. В то же время нужно очищать совесть исповеданием грехов своих и приобщением пречистых Тайн Тела и Крови Христовой».
После этого он обратился к слушателю и желая приготовить дух его к восприятию события, сказал ему:
«Радость моя! Молю тебя: стяжи мирный дух!»
Затем советовал переносить скоры ради Царствия Небесного: «Без скорбей нет спасения, — говорил он не раз. — За то претерпевших ожидает Царство Небесное. А пред ним вся слава мира — ничто».
После этого преподобный и сообщил брату Иоанну[4] о чудном видении.
«Вот я тебе скажу об убогом Серафиме! Некогда, — можно думать, что это именно было в период затвора, — читая Евангелие от Иоанна слова Спасителя, что в дому Отца Его обители многи суть (14, 2), я, убогий, остановился на них мыслию и возжелал ни деть сии небесные жилища. Пять дней и ночей провел я в бдении и молитве, прося у Господа того видения. И Господь, действительно по великой Своей милости не лишил меня утешения по вере моей, и показал мне сии вечные кровы, в которых я, бедный странник земной, минутно туда восхищенный (в теле или без тела, — не знаю), видел неисповедимую красоту небесную и живущих там: Великого Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, апостолов, святителей, мучеников и преподобных отец наших: Антония Великого, Павла Фивейского, Савву Освященного, Онуфрия Великого, Марка Фраческого и всех святых, сияющих в неизреченной славе и радости, каких «око не видело, ухо не слышало и не помышление человеку не приходило» (Пс. 64, 4; 1 Кор. 2, 9), но какие уготовал Бог любящим Его!».
— С этими словами, — пишет Тихонов, — отец Серафим замолчал. — В это время он склонился несколько вперед, голова его с закрытыми очами поникла долу; и простертою дланию правой руки он одинаково (размеренно) тихо водил против сердца. Лицо его постепенно изменялось и издавало чудный свет, и наконец до того просветилось, что невозможно было смотреть на него; на устах же и во всем выражении его была такая радость и восторг небесный, что поистине можно было назвать его в это время земным ангелом и небесным человеком. Во время таинственного своего молчания он как будто что-то созерцал с умилением и слушал что-то с изумлением. Но чем именно восхищалась и наслаждалась душа праведника, знает один Бог.
После довольно продолжительного молчания снова заговорил отец Серафим. Вздохнув из глубины души, с чувством неизъяснимой радости он сказал мне:
«Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то решился бы ни временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самая эта келья наша была полна червей, и если бы эти черни ели плоть нашу во всю временную жизнь; то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим Его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания; там сладость и радость неизглаголанная, там праведники просветятся, как солнце… Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам батюшка апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горняго селения, в котором водворяются праведных души».
«Ты же, радость моя, — продолжал старец, — ради такого будущего блаженства, с братиями, стяжите целомудрие, храните девство, ибо девственник, хранящий свое девство ради любви Христовой, имеет часть со ангелы, и душа его есть невеста Христова, Христос же ей — жених, вводящий ее в чертог Свой небесный. Но душа, в грехах пребывающая,есть как бы вдова нерадивая, в сластолюбии «заживо умершая» — (1 Тим. 5, 6, 15).
Рассказывал он о том же и А. П. Еропкиной, вспоминая ей и святых мучениц, красоту Святой Февронии и многих других, сияющих в неизреченной славе.
«Ах, радость моя! — восклицал тогда он. — Там такое блаженство, что и описать нельзя».
«Лицо его, — записала потом она, — было необыкновенно… сквозь кожу у него проникал благодатный свет… в глазах же выражалось и спокойствие, и какой-то особенный душевный восторг. Надо полагать, что он, даже во время этих описаний своих созерцаний находился вне видимой природы — в небесных обителях».
Такое сверхъестественное и дивное восхищение было лишь вершиною озарений отца Серафима. В меньшей же степени это возношение духа к Богу он переживал не только многократно, а почти беспрерывно уже.
Величайшим утешением для него было святое причащение. Во все праздничные и воскресные дни Святые Тайны приносились ему после ранней обедни очередным священнослужителем из той же больничной церкви в келию, чтобы не нарушать его затвора. Тогда преподобный сверх обычного своего белого балахона надевал монастырскую мантию, холщовую епитрахиль и поручи. При появлении Святых Даров падал ниц и с трепетною радостью причащался.
В остальные дни ему приносили часть антидора, собственно для него нарочно отделяемую.
Отдавал некоторое время затворник и трудам. В келии их заменяли ему земные поклоны: сколько творил их он, один Бог знает.
А иногда сокровенно, ночью он разрешал себе исходить из келии, чтобы насвежем воздухе заняться каким-либо трудом.
Однажды брат, несший послушание монастырского будильщика, вставши ранее утрени, ходил близ соборного храма, где почивают приснопамятные отцы и пустынники саровские. И оттуда он в ночной тьме увидел пред келией они отца Серафима какого-то человека, который двигался быстро взад и вперед. Осенив себя крестным знамением, брат направился туда и увидел самого затворника. Чуть слышно произнося молитву Иисусову, он тихо, но быстро переносил поленницу дров с одного места на другое, ближе к келии. Обрадованный видением святого старца, послушник бросился к ногам его и, целуя их, просил благословения.
«Оградись молчанием и внимай себе!» — сказал ему батюшка. И благословив счастливого наблюдателя, скрылся в свою келию.
Кроме этого отец Серафим своими руками наготовил себе гроб с крышкой, выдолбив их из цельного дуба. И ом всегда стоял у него в сенях, чтоб напоминать ему и другим о смертном часе. Около него особенно часто будет молиться преподобный пред кончиною своею. И после затвора не раз просил иноков:
— Когда я умру, умоляю вас, братия: положите меня в моем гробе!
Так потом и было сделано.
В таком строгом затворе отец Серафим провел пять лет никого не принимая, ни с кем не беседуя, и даже никому не отворяя своей келий, кроме как для Хлеба Небесного и не всегда — для пищи земной.
К концу этого периода, к монастырскому престольному празднику Успения Богородицы, приехал епископ Иона, впоследствии экзарх Грузии[5].Желая видеть затворника, о коем молва давно уже доходила и до далеких покоев тамбовских архиереев, он в сопровождении игумена отца Нифонта и других лиц направился к келии отца Серафима. Постучались они, но ответа оттуда, по обычаю, не было. Сказано было через дверь, что старца хочет видеть Владыка, но отец Серафим, как и всегда, молчал.
Тогда отец Нифонт предложил снять дверь с крюков и таким образом против воли узреть затворника. Но епископ рассудил за лучшее отказаться, от своего желания, добавил со страхом:
— Как бы не погрешить нам!
И, оставив старца в покое, уехали из обители.
Затворник, опасаясь человекоугодничества, не изменил своего обета даже для епископа. А может быть, он духом прозревал в нем и нечто строптивое против себя, и маловерие в благодать Божию?..
Но дивны дела Божии: всего через несколько дней эти же двери раскроются, и не для монахов впервые, а для мирян…
Затворник выйдет на высший подвиг, выше которого уже нет на земле, подвиг любви (1 Кор. 13 гл.).
[1] Отец Нифонт свое мнение доводил впоследствии дальше. Митрополит Филарет Mосковский писал своему другу и духовнику архимандриту Антонию, бывшему ученику прем. Серафима: «Видно, согрешил Саровский игумен, написав Митрополиту Ионе свои не светлые помыслы» о преподобном, — а Митрополит Филарет был крайне осторожный судия.
[2] Путь к спасению. – С. 308-310.
[3] Таково было первоначальное назначение нынешнего клобука, а особенно — наметки на него. На Афоне и доселе наметка набрасывается отдельно на клобук и при желании может закрывать и верхнюю часть лица.
[4]
[5] Владыка Иона, по-видимому, тоже не вполне доверчиво относился к подвигам отца Серафима. Известно, например, что он будучи членом Синода противился изданию первого жития преподобного Серафима, несмотря на то, что об этом ходатайствовал сам митрополит Московский Филарет (смотри письма его к Архимандриту Антонию, часть 1, с. 383).