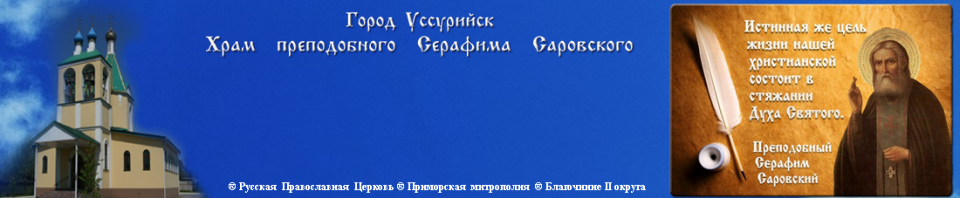В конце Успенского поста, 13 августа 1786 года[1] игумен Пахомий постриг послушника Прохора в монашество. Вместо него родился для духовной жизни в «ангельском чине» инок Серафим, что значит, с еврейского языка, и «пламенный» и «согревающий». И это имя, несомненно, данное ему за его горение духа, он оправдал вполне и своею пламенною любовью к Богу и Божией Матери, и теплою ласкою к людям. Легко и с трепетною радостью подклонил главу свою под ножницы постригающего новый монах, ни одна мысль о разлуке с миром не омрачила его души в момент духовного «венчания» ее с Женихом Небесным. Как созревший плод, отдал он себя в руки Божий. Вместе с отрезанными волосами окончательно обрезалась прошлая жизнь: отныне взявшийся за плуг подвижник никогда уже не будет озираться назад (Лк. 6, 62). «Я, матушка, — говорил он впоследствии дивеевской сестре Прасковье, — всю монастырскую жизнь прошел; и никогда, ниже мыслью, не выходил из монастыря».
Теперь у него все впереди. И если всякий монах по опыту знает, какою радостью и ревностью ко спасению зажигает благодать Божия, душу новопостриженного, то каким же огнем загорелся пламенный дух Серафима!..
Мы не знаем этого из его слов: не любил он рассыпать по людям тайн внутренней своей жизни. И другим потом не советовал. «Не должно без нужды другому открывать сердца своего. Из тысячи можно найти только одного, который бы сохранил твою тайну». Лучше даже «всеми мерами должно стараться скрывать в себе сокровище дарований. В противном случае потеряешь и не найдешь». «Всего жалостнее то, что от сего нехранения и многословия может погаснуть тот огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел воврещи на землю сердца: ибо, — говорил преподобный словами Святого Исаака Сирина, — ничтоже так устужает огнь, от Святого Духа вдыхаемый в сердце инока по освящении души, якоже сообращение и многословие и собеседование».
И потому, если он и прежде , во время послушничества, уклонялся в уединение и молчание, то теперь и вовсе уходит внутрь клети души своей (Мф. 6, 6-7).
Позднее в наставлениях своих он учит:
«Паче всего должно украшать себя молчанием. Ибо Амвросий Медиоланский говорит: молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни одного. И паки некто из отцов говорит, что молчаниеесть таинство будущего века, словеса же суть оружие мира сего» (Добротолюбие, т. V. Иноки Каллист и Игнатий). «От уединения и молчания рождается умиление и кротость». «Пребывание в келии в молчании, упражнении молитве и поучении… делает человека благочестивым», «ты только сиди в келии во внимании и молчании, всеми мерами старайся приближать себя к Господу; а Господь готов сделать из человека ангела». «Ежели не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя некоторое время, оставшееся от послушания, должно посвящать на это», «и за сие малое не оставит Господь Бог ниспослать благодатную Свою милость».
Особенно же преподобный Серафим наблюдал, «чтобы не обращаться на чуждые дела, не мыслить и не говорить о них, по псаломнику: «Невозглаголют уста моя дел человеческих» (16, 4); а— молить Господа: «От тайных мыслей очисти мя» (Пс. 18,13).
Даже во внешнем поведении иноку нужно вести себя собранно и замкнуто: «встречающихся старцев или братию»должно «поклонами почитать, имея очи всегда заключены». Даже «сидя за трапезой, на смотри ни на кого и не осуждай, кто сколько ест; но внимай себе, питая душу молитвою».
И лишь два исключения делает преподобный: во-первых, при общении «с чадами тайн Божиих», то есть с истинно-духовными единомышленниками; а во-вторых, при печали брата: «дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить любовным словом». Но и тут нужно быть рассудительным; неопытному же лучше и здесь молчать, особенно кто самого себя не устроил еще: «Аще себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем и других учить?» — говорил преподобный одному иноку. «Молчи, беспрестанно молчи, помни всегда присутствие Божие и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор, но всячески блюдись осуждать много разговаривающих или смеющихся. Будь в сем случае глух и нем». Несомненно, он и сам так поступал, особенно в начале иночества:
«Человек должен обращать внимание на начало и конец истории своей жизни; в середине же, где случается счастье или несчастье, должен быть равнодушен».
В частности, преподобный настойчиво советовал иноку строго «хранить себя от обращения с женским полом: ибо как восковая свеча, хотя и не зажженная, но поставленная между горящими, растаивает; так и сердце инока от собеседования с женским полом неприметно расслабевает».
И даже в старости своей он дал такой совет одному семинаристу, впоследствии настоятелю монастыря, архимандриту Никону: «Бойся, как геенского огня, галок намазанных (женщин); ибо они часто воинов царских делают рабами сатаны…» И сам он, как сейчас увидим, был в начале монашества необыкновенно осторожен и решителен.
Еще можно было б прибавить к этому сокровенному моменту первых дней монашества святого несомненное усиление в молитвенном подвиге; а затем и стремление к полному уединению, куда обычно влекутся сердца пламенных богомольцев. Но это осуществится несколько позднее, а теперь ему предстоит служение среди братии и сотрудничество своим духовным отцам игумену Пахомию и старцу Исаии, который был дан ему в духовные отцы при его постриге и коим он вверился с детским послушанием в ответ на их крепкую любовь к нему.
Вскоре же после пострига он был представлен к рукоположению в сан диакона. И 27 октября того же 1789 года, то есть всего лишь через 2 с половиною месяца, он был хиротонисан епископом Виктором Владимирским: Саров тогда входил в эту епархию. Повышая так скоро новопостриженного инока, святые отцы отметили этим то глубокое уважение, каким пользовался уже угодник Божий еще во время послушнического искуса. К нему применимо слово Писания: достопочтенная старость не числом лет исчитывается; лишь по-человечески «в седине и мудрость, а в старом возрасте — житие не скверное». Но благоугодивший Богу делается любим Им и людьми, несмотря на молодость; ибо он «вмале исполни лета долга: угодна бо бе Господеви душа его» (Прем. Солом. 4, 8—14). И о. игумен, обычно строгий в соблюдении уставов и церковных порядков, на сей раз считает молодого инока достойным высокой чести, проявляя в этом и свою, особую к нему любовь. «Блаженной памяти отцы наши, строитель Пахомий и казначей Иосиф, — говорил после угодник Божий, — мужи святые, любили меня, как свои души. И ничего ими от меня не потаено; и о том, что им было для своей души и для меня полезно, пеклися. А когда батюшка Пахомий служил, то без меня, убогого Серафима, редко совершал службу».
И даже выезжая куда-либо из монастыря, особенно для богослужений, брал с собою именно иеродиакона Серафима и «ничего от него не таил»: так он любил и ценил его.
Но промысл Божий имел и другую, более благую и высокую цель в новом послушании— развивать и усовершать в своем пламенном служителе горение любви к Богу и восхищающий в горний мир дух молитвы: этому же ничто так не содействует, как собственное участие в служении Божественной Литургии. Между тем если бы преподобный остался на обычных иноческих послушаниях, то они отвлекали бы его от предназначенного ему Богом пути созерцательной жизни. Теперь же в течение 6 лет и 10 месяцев, преподобный очень чатсо служит литургии, уносясь в иной, ему уже свой мир.
«Сей — от рода нашего», — говорила Небесная Госпожа его.
Как он готовился к совершению пренебесного таинства, видно из того, что под воскресенье и праздничные дни преподобный целые ночи проводил и молитве. А по окончании службы задерживался в храме, приводя в порядок утварь, складывая облачения, заботясь о чистоте храма. Насколько высоко он ценил славу священнослужения, видно и из завещания его дивеевским сестрам, прислуживавшим в церкви: «Все церковные должности, — записала монахиня Капитолина, — должны исправляться только девицами: так Царице Небесной угодно! Помните это и свято сохраняйте, передавая другим!».
«Никак и никогда не дозволят входить в алтарь не постриженным сестрам».
«Никогда, Боже упаси, ни ради чего, ни ради кого бы то ни было не разговаривать в алтаре, если бы даже пришлось и потерпеть за это; ибо Сам Господь тут присутствует! И трепеща, в страхе предстоят Ему все Херувимы и Серафимы и вся Сила Божия. Кто же возглаголет пред лицом Его!» — говорил батюшка.
Даже вытирая пыль и выметим сор из храма Божия, не должно бросать его с небрежением и куда попало: «токмо прах храма Божия, свят уже есть». И воду сливать тоже нужно в особое чистое место.
И вообще батюшка учил так о храме: «Нет паче (выше) послушания, как послушание церкви! И если токмо тряпочкою притереть пол в дому Господнем превыше всякого другого дела поставится у Бога! Нет послушания выше церкви! И все, что ни творится в ней, — и как входите и отходите, все должно творить со страхом и трепетом и никогда непрестающею молитвою». И кого токмо убоимся в ней! И где же и возрадуемся духом, сердцем и всем помышлением нашим, как не в ней, где Сам Владыка Господь наш с нами всего соприсутствует!».
«И никогда в церкви, кроме необходимого должного же церковного и о церкви, ничего не должно говорить в ней! И что же краше, выше и преславнее церкви!»
Так он чувствовал; так и сам поступал до самой смерти. Один из посетителей удостоился побывать у него за 10 дней до кончины.
«Я пришел, — писал он, — в больничную церковь к ранней обедне, еще до начала службы. И увидел, что отец Серафим сидел на правом клиросе, на полу. Я подошел к нему тотчас под благословение; и он, благословившименя, поспешно ушел в алтарь, отвечая на мою просьбу побеседовать с ним: «После, после!»
Какою же неземною житью жил он сам в храме и особенно за Литургией, об этом и некоторой степени можно лишь догадываться из слов его, что пребывая в храме, он забывал и отдых, и пищу, и питье, и оставляя церковь, об одном лишь говорил с жалостью: «Почему человек не может, подобно ангелам, беспрестанно служить Господу!» — а их он созерцал не раз при совершении богослужения. — Вид их, — говорил отец Серафим, — был молние зрачен; одежда белая, как снег, или златотканная; пение же их и передать невозможно!
Невыразимый восторг охватывал тогда преподобного: «Бысть сердце мое, — говорил он, — яко воск таяй от неизреченной радости (Пс. 21, 15). И не помнил я ничего от такой радости. Помнил только, как входил в святую церковь да выходил из нее». И однажды он во время Литургии сподобился такого видения, какого удостаивались очень немногие и из самых великих святых.
— Однажды случилось мне служить в святой и великий четверток. Божественная Литургия началась в два часа пополудни и обыкновенно — вечернею. После малого входа[2] и паремии возгласил я, убогий, в царских вратах: «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны!» и вошедши в царские врата, и наведя орарем на народ, окончил: «и во веки веков», — вдруг меня озарил луч как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небесными силами, Ангелами и Архангелами, Херувимами и Серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат грядущего на воздухе. Приблизясь в таком виде до амвона и воздвигнув Пречистые Свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих; посем вступив во святый местный образ Свой, что по правую сторону царских врат, преобразился, окружаемый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же, земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от Него благословения; сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу!
Преподобный Серафим изменился видом и, пораженный божественным видением, не мог сойти даже с места, у царских врат. Заметив это, отец Пахомий послал двух других иеродиаконов, которые, и чин его под руки, ввели во святой алтарь. Но он еще около трех часов продолжал стоять здесь неподвижно в благодатном изумлении. И только лицо его все время изменялось: то делалось бело, как снег; то разливался по нему румянец.
После окончания богослужения старцы спросили его: что случилось?
И отец Серафим, ничего не таивший от своих духовных отцов, поведал им все. Они дали завет ему: ограждать себя молчанием и еще более углубляться в смирение, опасаясь надмения от такогонеобычного видения. Преподобный принял их наставление со всею кротостью и молчал до нужного времени.
А что испытывал угодник Божий в святом Таинстве Причащения, то ведомо вполне ему лишь одному. Из наставлений же его мы знаем, какое величайшее значение он придавал Св. Евхаристии.
Когда его спросили: как часто приступать к пренебесному таинству, он ответил:
— Чем чаще, тем лучше.
В частности, дивеевским сестрам дал следующее правило, как записала инокиня Капитолина:
«Не следует пропускать случая, как можно чаще пользоваться благодатию, даруемой приобщением Св. Христовых Тайн. Стараясь лишь по возможности сосредоточиться в смиренном сознании всецелой греховности своей, с упованием и твердою верою в неизреченное Божие милосердие, следует приступать к искупляющему все и всех Св. Таинству, умиленно говоря: согрешил, Господи, душою, сердцем, словом, помышлением и всеми моими чувствами».
Особенно замечательно завещание об этом святого Серафима духовнику Дивеевской обители отцу Василию:
«Приобщаться Святых Христовых Животворящих Тайн заповедую им, батюшка, во все четыре поста и двунадесятые праздники; даже велю и в большие праздничные дни: чем чаще, тем и лучше.
Ты духовный отец их, не возбраняй, сказываю тебе: потому что благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал к Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очищаться, батюшка, благодатию Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется. Вот, батюшка, ты им духовный отец, и все это я тебе говорю, чтоб ты знал».
«При этом, — пишет о. Василий, — как духовного отца сестер обители, батюшка назидал меня, приказывая быть всегда, сколь возможно, снисходительнее на исповеди; за что, по времени, меня многие укоряли, осуждали, даже гневались на меня; и до сих пор еще судят; но я строго блюду заповедь его и всю жизнь мою сохранял. Угодник Божий говорил:
«Помни, ты только свидетель, батюшка, судит же Бог! А чего, чего, каких только страшных грехов, аще и изрещи невозможно, прощал нам всещедрый Господь и Спаситель наш! Где же нам, человекам, судить человека! Мы лишь свидетели, свидетели, батюшка; всегда это помни: одни лишь только свидетели, батюшка!»
Одному мирянину он дал такую заповедь: «Четыре раза приобщайся. И один раз — хорошо. Как Бог сподобит!» «Кто приобщается, спасен будет; а кто не приобщается — не мню: где Господин, там и слуга будет» (Иоан. 12, 29). В другой раз преподобный изрек глубокую тайну, что причащение одного спасительно бывает и для других:
«Благовейно причащающийся Св. Тайн и не однажды в год, будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Верую, — присовокупил он, — что по великой благости Божией ознаменуется благодать и на роде причащающегося. Пред Господом один творящий волю Кго паче тьмы беззаконных».
Дивное и утешительное и поучительное откровение!
При этом батюшка успокаивал тех, кто страшился приступать к таинству по сознанию недостоинства своего. Это мы видели и из завещания о. Василия; но особенно сильно выразилось это в случае с послушником Иоанном.
Однажды, накануне двунадесятого праздника, когда должно было приобщаться Св. Тайн, он вкусил пищи после вечернего богослужения, — что не полагалось уставом обители. К этому присоединилось у него и общее сознание своего недостоинства; и послушник начал падать духом; и чем более думал, тем более отчаивался: «Тьма ужасающих мыслей, одна — за другою, теснились в голове моей. Вместо упования на заслуги Христа Спасителя, покрывающие все согрешения, мне представилось, что по суду Божию за мое недостоинство я буду или сожжен огнем, или живой поглощен землею, как только приступлю к Святой Чаше».
Желая найти успокоение совести, послушник исповедался, но это не внесло мира в душу его; и он, стоя в алтаре, продолжал мучиться. Святой Серафим, прозрев это, подозвал его к себе и сказал дивные слова:
— Если бы мы океан наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить Господа за то, что он изливает на нас туне, питая нас Пречистою Своею Плотию и Кровию, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, приступи без сомнения и не смущайся; только веруй, что это есть истинное Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, которая дается во исцеление всех наших грехов.
Послушник, успокоившись, с верою и смирением приступил к Св. Таинству.
Но в другой раз Угодник Божий изрек страшное слово о недостойных причастниках.
Одна молодая вдова, Анна Петровна Еропкина, прожившая в браке лишь три месяца, рассказывая об отце Серафиме, между прочим, записала следующее. Когда любимый муж се неожиданно заболел, она «боялась предложить ему приобщиться Св. Христовых Тайн, опасаясь испугать его; «а он, хотя был тоже весьма религиозен, боялся огорчить жену приглашением священника». И так без причастия скончался. Жена очень мучилась этим.
«Особенно умереть без напутствования Св. Тайнами мне казалось карою Божией за мои и мужа моего грехи; мне думалось, что муж мой будет навеки отчужден от жизни Божией». «После похорон… я доходила до отчаяния и пожалуй, лишила бы себя жизни, если бы не было за мной строгого надзора».
Так вдова промучилась десять месяцев. Затем, по совету своего дяди, отправилась за 500 верст в Саров; здесь она нашла полное успокоение у преподобного, а относительно смерти мужа батюшка сказал ей так: «Не сокрушайся об этом, радость моя, не думаю, что из-за этого одного погибнетего душа. Бог только может судить: кого чем наградить или наказать». И далее вот и добавил:
— Бывает иногда так: здесь на земле и приобщаются; а у Господа остаются неприобщенными!..
…Как это страшно! Как вразумительно!..
— Другой же хочет приобщиться; но почему-нибудь не исполняется его желание, совершенно от него независимо; такой невидимым образомсподобляется причастия чрез Ангела Божия.
Вдова успокоилась.
А иногда Господь и явно наказывает недостойно приступающих к таинству.
Протоирей г. Спасска отец Петр Феоктистов описал следующий случай. Один диакон, обличенный в дурном поведении своим священником, сам через свидетелей, принесших ложную присягу в оправдание его, обвинил пред епископом иерея. Диакона повысили: из села перевели к отцу Петру в город. Он продолжал здесь служить, не смущаясь совести. Вскоре диакон приехал в Саров и направился к отцу Серафиму. Увидев его, прозорливый угодник вышел навстречу из своей келии, мгновенно поворотил его назад и с гневом сказал: «Поди, поди от меня; это не мое дело!»
Диакон не знал, что делать дальше.
Некий инок посоветовал ему сначала отысповедаться. Но и это не помогло: батюшка и второй раз выгнал его: «Поди, поди, клятвопреступник, и не служи!»
Диакон возвратился домой и обо всем происшедшем рассказал домашним; но не подумал исправить своего греха клятвопреступления. Тогда Бог покарал его Своею десницею. Когда священник Литургией произнес с ним молитву по чину: «Господи! устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою», вдруг диакон вместо того, чтобы по уставу сказать: «Время сотворити Господеви: владыко, благослови», онемел. И должен был уйти даже из церкви домой. Там способность речи возвратилась к нему. Но как только он снова входил в храм, язык опять отнимался. Такое Божие наказание продолжалось целых три года, пока недостойный служитель не дошел до полного раскаяния. В день Вознесения Господня, на утрене после величания, запели псаломский стих:
— Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования» (46, 2). Диакон, — как он рассказывал потом — пораженный от этих слов внезапным ужасом, стал молиться о помиловании. И вдруг язык разрешился от немоты.
Обрадованный исцелением и еще больше милостью Божией, он тут же в храме открыто раскаялся но тем, поведал о совершившемся чуде и прославил прозорливого своего обличителя отца Серафима. Так «Бог, — учит батюшка, — являет нам Свое человеколюбие, всячески спасает нас не только тогда, когда мы делаем доброе, но и когда оскорбляем и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наши беззакония! А когда наказывает, как благоутробно наказывает!»
«Посему, — говорит преподобный Серафим словами Исаака Сирина, — не называй Бога Правосудным; ибо в делах твоих (то есть при множестве наших грехов и Божией милости к нам) не видно Его правосудия», «и Сын Его показал нам, что Он — более благ и милостив. Где его правосудие? Мы были грешники, Христос умер за нас» (Рим. 5, 8).
Но возвратимся снова к житию самого угодника Божия. В этот период его иеродиаконства подобает отметить один случай из его жизни, связавший его потом навеки с духовным созданием его — Дивеевскою обителью.
В 1789 году, в начале июня, отец Пахомий с казначеем отцом Исаиею отправились в село Леметь на погребение благодетеля монастыря помещика Александра Соловцова. По обычаю, отец игумен взял с собою иеродиакона Серафима. По дороге они заехали в Дивеево навестить основательницу общины блаженную Агафию Семеновну Мельгунову, в монашестве — Александру. Она получила от Господа извещение о близкой кончине своей и просила отцов, чтобы соборовали ее. При прощании же с ними мать Александра стала умолять отца Пахомия не оставить без попечения и ее сирот. Старец ответил пророчески: «Матушка! Послужить по силе моей и по твоему завещанию Царице Небесной… не отрекаюсь… Но как же и браться за то, не знаю: доживу ли до этого времени. А вот иеродиакон Серафим, — духовность его тебе известна, и он молод, доживет до этого: ему и поручи это великое дело».
Матушка Агафия ответила, что она лишь просит: а «Царица Небесная Сама тогда наставить его изволит».
Старцы уехали. На обратном пути 13 июня они поспели как раз к погребению ее. Отслуживши Литургию и отпевание почившей старицы, они хотели было направиться в Саров. Но шел сильный дождь. Отец Пахомий задержался. Святой же иеродиакон Серафим, по своему целомудрию и тщательной бережливости духовной, не остался даже на поминальный обед в женской обители; а тотчас же после отпевания,— несомненно с благословения отцов, знавших его духовное трезвение,—пешком ушел в свой монастырь под дождем.
Дивны и несоизмеримы Божий угодники! Кто бы иной так поступил? Какая сила и решимость! Какая предосторожность! И это у него, ангелоподобного Серафима…
Но многим ли известен другой, еще более поразительный и поучительный факт: сей святой угодник, можно сказать, духовно родивший Дивеевскую обитель и насельниц ее, после этого единственного случая никогда больше не был там!.. А созидал и управлял всем за 12 верст из Сарова!.. Событие — просто непостижимое, и для других невозможное…
Да, не просто люди становятся святыми… Даже говорить о них трудно и стыдно нам, грешным. А подражать им — ни сил не хватит, ни даже вполне представить подвигов немыслимо. Это — особые люди… Это — великаны небесные. Гиганты духа. Это — не нашего роду, земного, грешного, немощного…
…Прошло почти 7 лет монашества и диаконства отца Серафима. Отец Пахомий приближался уже к смерти. И еще при жизни своей он хотел видеть своего возлюбленного сомолитвенника — в полной иерейской благодати.
Вместе с старшей братией, которая тоже видела подвиги и святое житие молодого инока, отец настоятель обратился с ходатайством о рукоположении его в сан иеромонаха к Феофилу, епископу Тамбовскому, в епархию коего переведен был тогда Саровский монастырь. И 2 сентября 1793 года пламенный Серафим получил новую благодать от рук сего святителя.
Казалось бы, что теперь пред ним открывается более широкое поприще служения и монастырю, и братии, и богомольцам. Но загоревшаяся сильным пламенем любви к Богу душа не может успокоиться и остановиться на полпути.
«Бог есть огнь, — говорит батюшка, — согревающий и разжигающий сердца и утробы. — Стяжавший совершенную любовь существует в жизни сей так, как бы не существовал; ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидает невидимого. Он весь изменился в любовь к Богу и забыл всякую другую любовь». «Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей; ибо душою и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного».
Семь лет иночества, большею частию проведенные возле престола Божия, воспламенили в отце Серафиме жажду к боголюбивому уединению в пустыни.
А к тому же и друзья, один за другим, отходили в иную жизнь — что еще сильнее влекло его к мыслям о суетности этого скоропреходящего мира: отец Иосиф, первый старец его, давно скончался; отец Пахомий теперь готовился к исходу; оставался третий руководитель, тоже горячо любивший преподобного, казначей и старец по постригу, отца Исаия, будущий игумен обители. Отец Серафим и решил воспользоваться его властью для осуществления своего желания, к которому он стремился душою уже давно, — уйти в уединение. Ведь еще в бытность послушником, побуждаемый своим духом и увлекаемый примерами игумена Назария, Марка-молчальника, Дорофея-пустынника, он с разрешения игумена и благословениясвоего старца Иосифа иногда уходил в лес. Там он в сокровенном месте сделал себе малую кущицу и некоторое время проводил в созерцании и молитве.
Здесь он совершал краткое, но многократное правило, «еже даде Ангел Господень великому Пахомию» Египетскому[3]. Но все остальное время проходило у Прохора в «памяти Божией» и непрестанной молитве, которая сделалась для него дыханием души.
С богомыслием он соединял тогда и особый пост: вкушал лишь один раз в день, и то хлеб и воду; а по средам и пятницам совсем воздерживался от пищи и питья.
Но эти подвиги были лишь началом и первыми пробными опытами молодого духа в его полетах в горние выси. За 16 лет непрерывного подвижничества в обители окрепли духовные крылья, и «небесный человек» отлетел в уединение «Бога ради».
Впрочем, есть основание полагать, что была и другая причина к этому. Не должно думать, что монастыри, даже и хорошие, благоустроенные, представляют из себя мирное селение ангелоподобных людей. Нет, это места покаяния, подвигов и борьбы. И нигде так враг не возмущает души, как у подвизавшихся иноков. И потому наряду с светлыми порывами и благодатными дарами всегда в монастырях наблюдались и козни вражий, и страсти человеческие. И чистой душе отца Серафима трудно стало в этом училище борьбы. Испытывал ли он за этот период жизни личные огорчения от братии, иногда, может быть, завидовавших его подвигам, его святости, его любви у старцев, а особенно — у игумена, его отшельничеству, — точно нам неизвестно. Но сам он вот что высказал однажды другому иноку, пришедшему за советом о пустынножительстве.
—Отче, — спросил тот, — другие говорят, что удаление из общежительства в пустыню есть фарисейство и что таковым применением делается пренебрежение братии или еще — осуждение оной?
Отец Серафим на сие ответил:
— Не наше дело судить других. И удаляемся мы из числа братства не из ненависти к ним; а для того более, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаяся от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Нижним, — что при множестве братии случается. Мы бегаем иг людей, которые с нами одного естества и носят одно и то же имя Христово, но — пороков, ими творимых; как и великому Арсению сказано было: «Бегай людей, и спасешься!»
Внешним же поводом послужила болезнь. От долгих церковных и келейных молитв у преподобного заболели ноги: они распухли и покрылись ранами; и ему трудно стало нести монастырские послушания. На это и указано было официально, как на первую причину. По главное внутреннее основание было духовное: «по усердию… единственно для спокойствия духа, Бога ради».
Побуждаемый всеми сими обстоятельствами, — а правильнее сказать, руководимый Самим Духом Святым, — отец Серафим, несомненно, еще при жизни отца Пахомия испросил у него благословение на пустынножительство. Теперь пришло это время: отец игумен доживал последние дни свои. Преподобный был при нем неотходно и служил ему с горячим усердием, помня, как настоятель с любовью ухаживал за ним в течение трехлетней его болезни. В это время ему и передано был попечение о Дивееве.
Однажды отец Серафим заметил по лицу отца Пахомия какую-то особую заботу и грусть.
— О чем, отче святый, — спросил он старца, — так печалишься ты?
— Я скорблю о сестрах Дивеевской общины, — ответил болящий, — кто их будет надзирать после меня?
Тогда преподобный, обычно столь смиренный и в особенности oсторожный к женскому полу, обещал умиравшему продолжать его дело: это было внушением Духа Божия и волею Царицы Небесной. Отец Пахомий обрадовался и в благодарность поцеловал отца Серафима. И затем скоро мирно почил в бозе (6 ноября 1794 года). На его место был избран отец Исаия. Горько оплакав и похоронив своего отца, благодетеля и друга о Господе, батюшка от нового настоятеля и своего старца получил разрешение и благословение на пустынножительство[4] . Это был опять канун Введения Божией Матери во храм, 20 ноября. 16 лет тому назад, в тот же самый день молодой Прохор входил в монастырские ворота; ныне горящий
духом Серафим выходил из них; но не в мир, а еще дальше от него, в глубь пустыни. Божия Матерьведет Своего возлюбленного слугу и молитвенника внутрь скинии, во святая святых, ближе к Себе и Богу.
Монастырская келия была для него порогом к истинному монашеству — уединенному[5] всецелому общению с Богом, к внутренней молитве.
— Одна молитва внешняя недостаточна, — наставлял он одного будущего инока, — Бог внемлет уму. А потому те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву с внутренней, — не монахи, а черные головешки.
У пламенного же отца Серафима внутреннее горение стало уже столь уже столь сильно, что ему нужен был полный простор для его духа, в безмолвии.
— Люблю вас, говорил братии св. Арсений Великий, удаляясь из общежития в пустыню: но Бога люблю больше. И не могу быть вместе с Богом и людьми.
«Безмолвник есть земной вид ангела». К этому естественному концу привели отца Серафима послушнические и монашеские его годы в «ангельском чине».
[1] В день кончины другого святого святителя Тихона Задонского, почившего за три года перед этим
[2] В это именно время диакон, неся Евангелие, тайно говорит священнику: «Господу помолимся». Тот тоже тайно и тихо глаголет «молитву входа»: «Владыко Господи Боже наш, уставивый на небесех чины и воинства ангел и архангел в служение Твоея славы, сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти сослужащих нам и сославословящих Твою благость». А по входе поется и ангельская песнь: «Святый Боже».
[3] Оно состоит из обычного начала — с трисвятого по Отче наш; потом — Господи помилуй — 12 раз. Слава и ныне, приидите поклонимся — трижды; псалом 50-й Помилуй мя Боже; Верую; 100 молитв Иисусовых: Достойно и отпусть; таких молитв нужно было совершать 12 днем и 12 ночью по числу часов. Они заменяли пустынникам всякие иные богослужения. Отсюда после вышло «правильце» отца Серафима.
[4] «Объявитель сего, — говорится в отпускном монастырском билете от 20 ноября 1794 года, — Саровской пустыни иеромонах Серафим, уволен для пребывания в пустыни в своей (то есть монастырской) даче: по неспособности его в обществе, за болезнию, и по усердию, после многолетнего искушения в той обители и в пустыню уволен единственно для спокойствия духа. Бога ради, и с данным ему правилом согласно святых (нрзб.) положениям; и впредь ему никому не препятствовать пребывание иметь в одном месте; и оное утверждаю, строитель иеромонах Исаия. «Для верности печать прилагаю при сем».
[5] Монах с греческого языка «монос» и «эхо», значит – живущий одинаково, уединенник.