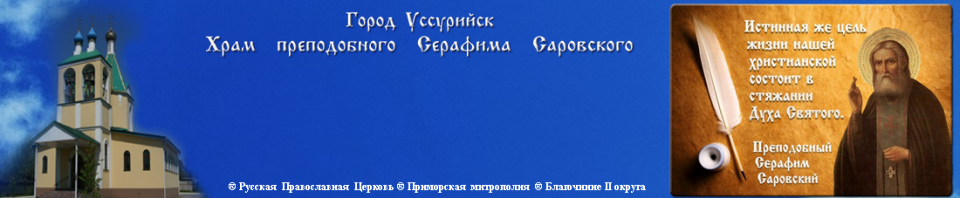Преподобный Серафим Саровский. Икона нач. XX века из храма во имя святого апостола Филиппа в Новгороде
Во время Великого поста 1829 года из конторы помещиков Баташевых пришла, наконец официальная бумага — дарственная на три десятины той дивеевской земли, на которой стояла мельница девичьей общины. Отец Серафим воспринял это событие как великий праздник: весь сияя от радости, он вручил Михаилу Васильевичу Мантурову кадочку с медом и приказал передать мельничным сестрам, пусть-де, когда обойдут землю за землемером, скушают этот мед с хлебом. А когда будут идти, то пусть запасутся камешками и кладут их ровной цепочкой на снег от колышка к колышку — снег растает и камешки останутся на земле, точно очертив владение. Сестры, конечно, все так и сделали. И мед Серафимов был съеден с истинным детским удовольствием. По просьбе отца Серафима сестра Елена Васильевна (Мантурова) написала благодарственное письмо дарительнице земли генеральше Постниковой, а батюшка прибавил к письму свое благословение — несколько сухариков.
Когда снег сошел, колышки упали, иные водой отнесло на другое место, а камешки лежали на земле ровной полосой. Отец Серафим велел опахать землю по этой границе сохой три раза по одной и той же борозде. И потом, когда земля просохла и начала расти трава, велел прорыть по всей границе канавку в три аршина глубины (два с половиной метра) и землю из нее бросать на внутреннюю сторону, чтобы над канавкой был вал вышиною также в три аршина. А для укрепления вала велел насадить на нем крыжовник.
— Когда так сделаете, — говорил батюшка, — никто через канавку эту не перескочит. Канавка эта — стопочки Божией Матери! Тут ее обошла Сама Царица Небесная! Эта канавка до небес высока! Землю эту взяла в удел Сама Госпожа Пречистая Богородица! Тут у меня и Афон, и Киев, и Иерусалим! И как антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит!
Канавку рыть было нелегко, и работы хватило года на четыре. Батюшка торопил, не велел переставать, рыли и зимой — топорами рубили землю… А все-таки работу начали не сразу, медлили… Сестра Анна Алексеевна много лет спустя вспоминала: «Приказал батюшка вырыть канавку, дабы незабвенна была во веки веков для всех тропа, коею прошла Матерь Божия, Царица Небесная, в удел свой взяв Дивеево! Слушать-то сестры все это слушали, да все и откладывали исполнить приказание батюшкино и не начинали рыть канавку. Раз одна из нас, чередная, по имени Мария… ночью, убираясь, вышла зачем-то из келлии и видит — батюшка Серафим в белом своем балахончике сам начал копать канавку. В испуге, а вместе и радости, не помня себя, вбегает она в келлию и всем нам это сказывает. Все мы, кто в чем только был, в неописанной радости бросились на то место и, увидев батюшку, прямо упали ему в ноги, но, поднявшись, не нашли уже его, лишь лопата и мотыжка лежат перед нами на вскопанной земле. С аршин была уже она на том самом месте вырыта; по этому-то самому и называется это началом канавки; так сам батюшка, видя нерадение и небрежение наше к исполнению заповеди его, начал копать ее. Тут уже все приложили старание… всю своими руками, как приказывал он, выкопали сестры эту святую, заповедную нам канавку; и лишь только окончили, скончался тут же и родимый наш батюшка, точно будто только и ждал он этого».
Вот рассказывает и другая сестра: «Была я у батюшки одна из двенадцати первых сестер и, поработав, ночевала в пустыньке, не пустил он меня, а наутро-то, чуть свет, и посылает: «Гряди, гряди, — говорит,— матушка, скажи девушкам, пусть сегодня начинают канавку рыть; я был там и сам начал ее!» Иду дорогой да думаю: как же это батюшка-то говорит, что был? Должно быть, ночью ходил. Прихожу, и рассказать-то еще не успела, а сестры встречают меня, рассказывают друг дружке, как на заре видели батюшку-то, как, обрадовавшись, бросились было к нему, а он и пропал, вдруг стал невидим! А я-то свое рассказываю им».
И третья: «У вас канавку вырыть надо!» — раз так-то заботливо говорит мне батюшка Серафим. Три аршина чтобы было глубины и три аршина ширины и три же аршина вышины, воры-то и не перелезут! — На что, говорю, батюшка, нам ограда бы лучше! — Глупая, глупая! — говорит.— На что канавку? Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет!»
Елена Васильевна Мантурова считалась начальницей мельничной обители, но рыла канавку со всеми сестрами вместе. Отец Серафим говорил им, когда кто-нибудь из них приходил к нему: «Во, матушки, начальница-то ваша, госпожа-то ваша как трудится, а вы, радости мои, поставьте ей шалашик, палатку из холста, чтоб отдохнула в ней госпожа-то ваша от трудов!»
Канавку копали, а возле Казанского собора строили храм Рождества Христова. 19 августа 1829 года, в день Преображения Господня, он был освящен, хотя еще не был достроен и даже икон в нем не было… Михаил Васильевич Мантуров и отец Василий Садовский указывали отцу Серафиму, что вроде бы рано освящать, но старец отвечал: «Если церковь не будет освящена в этот день, то так и останется не освященною вплоть до будущего года и опять же до праздника Преображения Господня, в который должна она быть освящена, потому что Господу так угодно, батюшки!»
Отец Серафим послал Мантурова в Нижний пригласить Благовещенского монастыря архимандрита Иоакима на освящение храма, прося его приехать именно в день Преображения Господня. Приехал он, а в храме ни иконостаса, ни даже входа. Спешно принесли две местные иконы, ко входу приладили приставную лестницу, и началась служба… Храм был освящен. Только уехал архимандрит, а отец Серафим призывает к себе Мантурова.
— Худо мы, батюшка, с тобой сделали; ведь мы храм-то во имя Рождества Спасителя выстроили, а во имя Богородицы церкви-то у нас с тобой и нет! А Царица-то Небесная, батюшка, прогневалась на меня, убогого Серафима, и говорит: «Сына Моего почтил, а Меня позабыл!» Так вот что и удумал я, батюшка, нельзя ли нам это исправить — нельзя ли внизу-то нам с тобою под церковью еще церковь сделать?
— Уж и не знаю как, — озадаченно отвечал Михаил Васильевич. — К тому же и места мало, да и ход туда, под крыльцо, как лазейка!.. Разве подкопать землю?
— Во, во, батюшка! — обрадовался старец. — Как ты хорошо удумал! Схлопочи-ка батюшка, и будут у нас две церкви с тобою, и Царица-то Небесная не прогневается на нас. Да вот возьми-ка, я тебе и меру приготовил (батюшка подал Михаилу Васильевичу бечевку) — если место как раз по ней выйдет, батюшка, то можно будет устроить придел и Царице Небесной!
Стали копать под церковью — сколько можно. Михаил Васильевич прикинул подкоп Серафимовой бечевкой, и он оказался ровно в эту меру! Пошел, доложил об этом старцу, и тот благословил строить внизу церковь. Потом оказалось, что внизу надо ставить четыре дополнительных столба, а церковка выходит и так тесной… Мантуров и об этом доложил батюшке.
— Во, во! — в восторге воскликнул он. — Четыре столба — четверо мощей! Радость-то какая нам, батюшка! Четыре столба — ведь это значит четверо мощей у нас тут почивать будут! И это усыпальница мощей будет у нас, батюшка! Во, радость-то нам какая!
И долго он каждого приходящего встречал фразой:
— Четыре столба — четверо мощей!
Отец Серафим пустил в ход накопленные деньги — послал одного нарочного на Нижегородскую ярмарку за колоколами для Рождественского собора, а другого в Москву за священными сосудами. Потом прислал он в собор разные облачения и несколько собственных своих икон: Казанский образ Божией Матери, Преподобного Сергия, святых Кирилла и Марии, а также складень в серебряной ризе и с изображением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи. Приходские священники начали по очереди служить в новом храме. Сестры Дивеевской общины стали петь на клиросе, возжигать свечи и лампады, наводить чистоту и порядок, читать по очереди неусыпную Псалтирь…
Был при самом начале этого такой случай. Сестра Ксения Васильевна, чередная, следила за лампадками во время службы. По завету отца Серафима перед иконой Богоматери стояла неугасимая лампада. И вдруг Ксения Васильевна видит, что неугасимая лампада догорает, а в бутыли нет масла… Служба кончилась, и все вышли, а лампада погасла. Сестра стала плакать и, вспомнив завет батюшки Серафима, подумала: «Если несправедливыми оказались слова его о неугасимой лампаде — ведь нет ни елея, ни денег — то, может быть, и во всех других случаях не сбудутся его предсказания». Вдруг — слышит треск. Смотрит — лампада засветилась… Подошла ближе, видит, что стаканчик полон масла и рядом лежат два серебряных рубля… А когда потом вышла во двор, там встретил ее незнакомый крестьянин, который дал ей триста рублей и попросил о упокоении его родителей подливать елея в неугасимую лампаду…
А батюшка задумал строить в Дивеевской общине еще и большой собор. Но сначала надо было приобрести землю. К владельцу той полосы, где наметил старец новое строительство, господину Жданову, послал Елену Васильевну Мантурову. Он дал ей триста рублей и велел даром земли не брать, а непременно заплатить.
— Святой царь Давид, — сказал он, — когда восхотел соорудить храм Господу на горе Мории, то гумно Орны туне не приял, а заплатил цену; так и здесь. Царице Небесной угодно, чтобы место под собор было приобретено покупкою, а не туне его получить. Я бы мог выпросить землю, но это Ей не угодно… Поезжай в город Темников к хозяину этой земли Егору Ивановичу Жданову, отдай ему эти мои деньги и привези бумажный акт на землю.
Она поехала.
— Как?! — воскликнул господин Жданов. — Вы хотите, чтобы я продал этот столь малый и единственно мне принадлежащий клок земли дивному Серафиму? Полноте, матушка, вы шутите… берите даром!
Но, выслушав Елену Васильевну, он вынужден был взять деньги. Купчая была оформлена. Впоследствии открылось, что у Жданова и его семьи в этот момент не было ни копейки денег, он потерял службу и терпел крайнюю нужду, не зная что делать. Тем не менее он не хотел брать Серафимовых денег. И вот с них- то, с этих трехсот рублей, стали быстро и чудесно поправляться его дела, все устроилось, он также выдал замуж дочь, женил сына, нашел ему службу…
Когда Елена Васильевна вернулась, отец Серафим пришел в восторг и, целуя купчую, восклицал:
— Во, матушка, радость-то нам какая! Собор-то у нас какой будет, матушка! Собор-то какой! Диво!
Потом были куплены другие полоски земли — Мантуров и Мотовилов скупили чрезполосные владения, а частью обменяли. Монахиня Евпраксия вспоминала, как батюшка однажды сказал ей:
— Вот этот лес, что Горячев ключ-то называется, это наш лес будет, матушка[1]. Тут могут быть и пчелки у нас, потому что хороший приют тут будет, и вода близко, и всякий цвет! А воск-то занадобится нам, матушка, свечки Богу будем работать. А жители-то, жители-то, все вокруг нам служить будут, радость моя! И какая радость-то будет, но мы не доживем, и я не доживу, как собор-то у нас пятиглавый будет! Только и ты, матушка, не узришь, как это совершится! А будет-то он в средине двух церквей, против Казанской церкви, а тут напротив нее будут Святые врата, и какая радость-то будет, какая радость-то будет!.. И пойдет ограда каменная вплоть до речки, и все наше будет!.. Четверо мощей будут у нас, матушка! Какая великая радость-то будет! Среди лета запоют Пасху, радость моя! Приедет к нам Царь и вся Фамилия! Дивеево-то лавра будет, Вертьяново — город, а Арзамас — губерния! Станут все приходить к нам, матушка, запираться для отдыха-то будем; станут деньги давать, только берите; в ограду станут кидать, а нам уже не нужно, много своих тогда будет, матушка!
— Кто в Дивееве у меня живет, — говаривал отец Серафим, — не для чего ему никуда ходить — ни в Иерусалим, ни в Киев — пройди по канавке-то с четочками, прочти полтораста Богородицу — тут у меня Иерусалим и Киев!
Много пророческих слов было сказано батюшкой сестре Ирине Семеновне. Она работала у него в пустыньке, а он говорил:
— Вот, матушка, скажу вам, придет время, у нас в обители все будет устроено. Какой собор будет! Какая колокольня! А келлии и ограда будут каменные, и во всем будет у вас изобилие!
И вдруг он поник и прослезился:
— Но тогда жизнь будет краткая. Ангелы едва будут успевать брать души… А кто в обители моей будет жить, всех не оставлю. Кто даже помогать будет ей, и те муки будут избавлены! Канавка же будет вам стеною до небес, и когда придет антихрист, не возможет он перейти ее, она за вас возопиет ко Господу и стеною до небес станет и не впустит его! А колокол-то московский, который стоит на земле около колокольни Ивана Великого, он сам придет к вам по воздуху и так загудит, что вы пробудитесь и вся вселенная услышит и удивится.
О том же московском колоколе рассказывал он и другой матушке:
— Когда его повесят да в первый-то раз ударят в него и он загудит, — и батюшка изобразил это гудение голосом, — тогда мы с вами проснемся! О! Во, матушки вы мои, какая будет радость! Среди лета запоют Пасху! А народу-то, народу-то, со всех сторон, со всех сторон[2]! — Помолчав, продолжал.— Но эта радость будет на самое короткое время. Что далее, матушка будет… такая скорбь, чего от начала мира не было!
И заскорбел батюшка, опустил голову, и слезы полились по его щекам.
Радуясь новым храмам в Дивееве, отец Серафим неустанно наставлял сестер благоговейно относиться к ним:
— Нет паче послушания, как послушание Церкви! И если токмо тряпочкою притереть пол во дому Господнем, превыше всякого другого дела поставится у Бога! Нет послушания выше Церкви! И все, что ни творите в ней — и как входите и исходите, все должно творить со страхом и трепетом и никогда не престающею молитвою. И никогда в церкви, кроме необходимо должного же церковного и о церкви, ничего не должно говориться в ней! И что же краше, превыше и преслаще церкви! И кого бо токмо убоимся в ней, и где же и возрадуемся духом, сердцем и всем помышлением нашим, как не в ней, где Сам Владыка Господь наш с нами всегда соприсутствует!
Велика и неусыпна была забота старца о дивеевских «сиротах». Вот просят они благословение пойти за брусникой.
— Радости мои, — говорит он, — вы ничего не бойтесь, вас никто не может обидеть; кто же обидит, сам всегда будет наказан!
И пошли Ксения Ивановна и другие сестры в лес на несколько дней по ягоды. В лесу собирают бруснику с молитвой, каждая про себя, вдруг слышат, кто-то верхом скачет, кричит — лесник:
— Что вы тут шляетесь! Чтобы духа вашего тут не было!
Сестры стали собирать корзины, чтобы уйти, но лесник уехал. Тогда они снова начали искать ягоды. А он тут как тут:
— Ведь сказано вам убираться отсюда!
И замахнулся длинной плетью на Ксению Ивановну. А плеть из его руки вдруг исчезла. Удивился он, соскочил с коня, стал шарить по земле — нет плети нигде!
— Странно, — сказал он и обратился к сестрам, — помогите найти, плеть-то хозяйская…
Сестры искали очень усердно, но не нашли. И лесник, изумленный и даже испуганный, так и уехал, оставив сестер в покое.
Когда отец Серафим узнал об этом, сказал сестрам:
— Где же ему плеть-то найти, ведь она в землю ушла.
Блаженные были то времена для дивеевских сестер. За батюшкой — как за стеной!
Сестры Домна Фоминишна и Акулина Васильевна несли послушание возчиц дров от дальней пустыньки отца Серафима в Дивеево. Раз зимою навязали воз, пока трудились — промерзли, а батюшки в дальней пустыньке в это время не было… Доехали они с дровами до ближней и, не зная тут ли он, плача от холода, встали около избушки. Батюшка прознал духом, что они тут, постучал кулаком изнутри в стену, заходите, мол. Они не слышали. Тогда он вышел сам, ввел их, обогрел, напоил «взварцем» из трав и утешил как добрый отец дочерей своих. Забыли они про холод, усталость и слезы, веселые поехали домой…
Раз пришла к старцу одна сестра унывающая: «По кончине не будет уже никому и никакой награды», — в смущении духа думалось ей. Батюшка встретил ее весьма ласково: «В сеночках, — вспоминала она, — положил головку на грешное плечо мое и сказал: «Не унывай! Не унывай, матушка, мы в Царствии-то Небесном будем с тобою ликовать!» — и всплеснул он ручками, и лицо его как свет просветилось, и до трех раз повторял он все эти же сладостные слова: «Не унывай! Не унывай, мы с тобою в Царствии Небесном будем ликовать!» — и прибавил: «Матушка, чтоб умная молитва навсегда бы при тебе была». А я, грешница, изнемогала в малодушии. «Не слушай, — говорит, — матушка, куда тебя мысли-то посылают, а молись так, матушка: Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое — и с начала до конца: О, всепетая Мати…, потом: «Помяни, Господи, отца нашего иеромонаха Серафима, и свое-то имя помяни, вот, матушка, мои грехи простит Господь и твои, так и спасемся!».
Однажды заскорбел так же вот, как дивеевская сестра, один инок саровский. Уж он почти в отчаяние пришел и упросил одного брата с ним монастырь обойти для утешения беседою. Вот и пошли они. Проходя мимо конного двора, где была тропа в лесные пустыньки отца Серафима, брат поспешил, чтобы своротить куда-нибудь, не желая встретить старца в таком унылом состоянии, но старец был уже тут. Он, в белом балахоне и закутанный в какой-то огромный зеленый платок (так что конец его по земле тащился), остановился и благословил упавших ему в ноги монахов.
— Радости исполни мое сердце, Дево, яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи, — пропел отец Серафим стих из 9-й песни канона (Параклиса), поемаго во всякой душевной скорби и обстоянии.
Потом, топнув ногою, сказал:
— Нет нам дороги унывать, потому что Христос все победил, Адама воскресил, Еву свободил, смерть умертвил!
И потом, идя вместе с иноками в обитель, много утешал их своей беседой. Скорбящий брат возвратился в свою келлию в радости душевной и с новыми силами.
Приходит отец Серафим в обитель, а там его кто-нибудь из дивеевских поджидает. Так им самим было заведено. Он приготовляет «ношу», большой мешок с припасами, скопившимися в келлии от приношений мирян. И чего тут только не было — все необходимое для храма и трапезы. Саровские насельники — да и сам игумен — искушались этим, останавливали сестер, спрашивали, что несут. Бывали случаи, когда игумен отбирал и отдавал в монастырское хозяйство эти серафимовские «ноши». Старец же молчал, приказывал сестрам идти с грузом в задние врата, мимо конного двора, избегать встреч с монахами. Хуже стало, когда в монастырь опять поставили военную команду. Солдатами, стоявшими у ворот, распоряжался сам игумен.
Сестра Евдокия Ефремовна чаще других приходила за «ношами» (видно, была покрепче). Ее воспоминания об этих походах читаешь с невольной улыбкой, но грустно становится от них на душе. «То всем известно,— говорила она,— как не любили саровцы за нас батюшку отца Серафима; даже гнали и преследовали его за нас постоянно, много-много делая ему огорчения и скорби! А он, родной наш, все переносил благодушно, даже смеялся и часто сам, зная это, шутил над нами. Прихожу я к батюшке-то, а он всем ведь при жизни-то своей сам питал и снабжал нас всегда с отеческою заботою, спрашивая: есть ли все? не надо ли чего? — Со мною, бывало, да вот с Ксений Васильевной и посылывал — больше меду, холста, елея, свечей, ладану и вина красного для службы. Так-то и тут пришла я, наложил он мне, по обыкновению, большую суму-ношу, так что насилу сам ее с гробика-то поднял, индо крякнул, и говорит: «Во, неси, матушка, и прямо иди во Святые ворота, ничего не бойся»! Что это, думаю, батюшка-то, всегда, бывало, сам посылает меня мимо конного двора задними воротами, а тут вдруг прямо на терпение да на скорбь-то Святыми воротами посылает! А в ту пору в Сарове-то стояли солдаты и всегда у ворот на часах были. Саровские игумен и казначей с братиею больно скорбели на батюшку, что все дает-де нам, посылает, и приказали солдатам-то всегда караулить да ловить нас, особенно же меня им указали. Ослушаться батюшку я не смела и пошла сама не своя, так и тряслась вся, потому что не знала, чего мне так много наложил батюшка. Только подошла я к воротам, читаю молитву, солдаты-то двое сейчас тут же меня за шиворот и арестовали. «Иди, — говорят, — к игумену!» Я и молю-то их, и дрожу вся, не тут-то было. «Иди, — говорят, — да и только!» Притащили меня к игумену в сенки. Его звали Нифонтом; он был строгий, батюшку Серафима не любил, а нас еще пуще. Приказал он мне, так сурово, развязать сумку. Я развязываю, а руки-то у меня трясутся, так ходуном и ходят, а он глядит. Развязала, вынимаю все… а там — старые лапти, корочки сломанные, отрубки да камни разные и все-то крепко так упихано. «Ах, Серафим, Серафим! — воскликнул Нифонт. — Глядите-ка, вот ведь какой, сам-то мучается, да и дивеевских-то мучает!» — и отпустил меня. Так вот и в другой раз пришла я к батюшке, а он мне сумочку дает… «Ступай, — говорит, — прямо ко Святым воротам!» — Пошла, остановили меня и опять взяли да повели к игумену. Развязали суму, а в ней песок да камни!.. Игумен ахал, ахал, да и отпустил меня. Прихожу, рассказала я батюшке, а он и говорит мне: «Ну, матушка, уж теперь в последний раз, ходи и не бойся! Уж больше трогать вас не будут!» И воистину, бывало, идешь и во Святых воротах только спросят: «Чего несешь?» — «Не знаю, кормилец,— ответишь им,— батюшка послал». Тут же пропустят»…
21 августа 1829 года скончалась в Дивееве отроковица Мария Семеновна Мелюкова, в духовном отношении далеко обогнавшая старших сестер. Она всегда была погружена в молитву и все заповеданное отцом Серафимом исполняла в точности. Раз старшая сестра ее, Прасковья Семеновна, спросила ее о каком-то саровском монахе. Отроковица же отвечала, что не видела ни одного монаха.
— А какие видом-то монахи, Параша, — спросила она, — на батюшку, что ли, похожи?
Удивленная таким вопросом сестра сказала:
— Ты так часто ходишь в Саров, разве не видала?
— Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу; батюшка мне приказывал никогда не глядеть на них, и я так повязываю платок на глаза, чтобы видеть только дорогу у себя под ногами.
В час ее кончины отец Серафим, бывший в своей монастырской келлии, вдруг заскорбел и даже заплакал и сказал своему соседу по келлии:
— Павел! А ведь Мария-то отошла, и так мне ее жаль, так жаль, что, видишь плачу!..
Отец Серафим сам приготовил все нужное для погребения отроковицы — гроб дубовый, свечи (и ко гробу — рублевую желтую свечу) — и объявил, что Мария Семеновна им посхимлена, имя ее — схимонахиня Марфа.
— У нее все есть: схима и мантия и камилавка моя, во всем этом ее и положите!
Схимонахиню Марфу и положили в гроб в черной с белыми крестами схиме и длинной мантии, на голову надели зеленую бархатную, вышитую золотом шапочку а поверх — батюшкину камилавку и повязали еще большим драдедамовым (драдедам — легкое сукно, полусукно. — Ред.) темно-синим платком с кистями. В руках она держала кожаные четки-лестовку. При жизни, в последнее время, она, по приказанию батюшки, ходила во всем этом к причастию Святых Христовых Таин. А была Мария Семеновна высокого роста, с продолговатым белым лицом, светло-русыми волосами и голубоглазая. Отец Серафим всех посылал на погребение «великой рабы Божией Марии» и говорил, что кто там побывает, тому будет отпущение грехов. Даже саровских иноков он посылал некоторых.
Одна сестра, бывшая стряпухой, сильно тяготилась этим послушанием, уставала, плакала, и у нее появился помысел потихоньку, без благословения отца Серафима, уйти из общины. Конечно, отец Серафим прознал это духом и вызвал ее к себе в монастырскую келлию, успокоил, утешил и велел наутро прийти к нему в дальнюю пустыньку.
— Батюшка, я боюсь идти одна в дальнюю-то пустыньку, — робко возразила она
— Ты, матушка, иди до пустыньки и сама все на голос читай: Господи, помилуй!
И пропел несколько раз: Господи, помилуй…
Она так и сделала. Не видела как дошла.
«Подходя к дальней пустыньке, — вспоминала она, — я вдруг увидела, что отец Серафим сидит близ своей келлии на колоде и подле него стоит ужасной величины медведь. Я так и обмерла от страха и закричала во весь голос: «Батюшка, смерть моя!» — и упала. Отец Серафим, услышав мой голос, ударил медведя и махнул ему рукою. Тогда медведь, как разумный, тотчас пошел в ту сторону, куда махнул ему батюшка, в густоту леса. Я же, видя все это, трепетала от ужаса и даже, когда подошел ко мне отец Серафим со словами: «Не ужасайся и не пугайся», я продолжала по-прежнему кричать: «Ой, смерть моя!» На это старец отвечал мне:
— Нет, матушка, это не смерть; смерть от тебя далеко. А это радость!
И затем он повел меня к той же самой колоде, на которой сидел прежде и на которую, помолившись, посадил меня и сам сел. Не успели мы сесть, как вдруг тот же самый медведь вышел из густоты леса и, подойдя к отцу Серафиму, лег у ног его. Я же, находясь вблизи такого страшного зверя, сначала была в величайшем ужасе и трепете, но потом, видя, что отец Серафим обращается с ним без всякого страха, как с кроткой овечкой, и даже кормит его из своих рук хлебом, который принес с собою в сумке, я начала мало-помалу оживотво ряться верою. Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого отца моего: оно было светло, как у Ангела, и радостно.
Наконец, когда я совершенно успокоилась, а старец скормил почти весь хлеб, он подал мне остальной кусок и велел самой покормить медведя. Но я отвечала: «Боюсь, батюшка, он и руку мне отъест». Отец же Серафим, посмотрев на меня, улыбнулся и сказал:
— Нет, матушка, веруй, что он не отъест твоей руки.
Тогда я взяла поданный мне хлеб и скормила его весь с таким утешением, что желала бы еще кормить его, ибо зверь был кроток и ко мне, грешной, за молитвы отца Серафима.
Видя меня спокойною, отец Серафим сказал мне:
— Помнишь ли, матушка, у преподобного Герасима на Иордане лев служил, а убогому Серафиму медведь служит. Вот и звери нас слушаются, а ты, матушка, унываешь. А о чем нам унывать? Вот если бы я взял с собою ножницы, то и остриг бы его.
Тогда я в простоте сказала: «Батюшка, что если этого медведя увидят сестры, они умрут от страха». Но он отвечал: «Нет, матушка, сестры его не увидят». «А если кто-нибудь заколет его? — спросила я.— Мне жаль его!» Старец отвечал: «Нет, и не заколют. Кроме тебя никто его не увидит». Я еще думала, как рассказать мне сестрам об этом страшном чуде, а отец Серафим на мои мысли отвечал: «Нет, матушка, прежде одиннадцати лет после моей смерти никому не поведай этого, а тогда воля Божия откроет, кому сказать».
Через одиннадцать лет после кончины старца и записан был этот рассказ.
А рассказов о преподобном Серафиме великое множество, ведь у него многие тысячи людей бывали. И каких только чудесных случаев ни поведали они…
Вот в мае 1829 года крестьянин села Павлова Алексей Гурьевич Воротилов, духовный сын отца Серафима, запряг лошадь и помчался в Саров к батюшке, несмотря на то, что уже наступила ночь. У него отчаянно занемогла жена. Не за врачом он поехал… Отец Серафим как будто ждал его, сидел на крылечке:
— Что, радость моя, в такое время поспешил к убогому Серафиму?
Алексей Гурьевич попросил старца помолиться за его болящую супругу, но тот, к его ужасу, объявил, что это невозможно — пришел ее час. Тогда крестьянин в слезах припал к его ногам и стал просить все-таки помолиться о ее здравии. Старец, видя его веру, погрузился в молитву и минут через десять открыл глаза и сказал:
— Ну, радость моя, Господь дарует супружнице твоей живот. Гряди с миром в дом твой!
Вернувшись домой, Воротилов увидел, что жене его гораздо лучше, а скоро она и совсем выздоровела.
Пришла однажды в Саров странница, которая с детства была воспитана в старообрядческой семье и крестилась двуперстием. Но, слыша от многих православных, что это неправильно, стала сомневаться, и пошла искать мудрых старцев. И вот она в Сарове, а отца Серафима нет, он в дальней пустыньке. Собралось много людей, и все пошли в лес к батюшке, а странница за ними, да, уставши и не отдохнув с пути, еле плелась сзади всех, а потом и вовсе отстала… «Смотрю, — рассказывала она, — в стороне старичок, седой такой, сухонький, сгорбленный, в белом халатике, сучки собирает. Подошла спросить: «Далеко ль до пустыньки отца Серафима?» Старец, — это был сам Серафим,— положив вязанку свою, посмотрел на меня ясным взором своим и тихо спросил: «На что тебе, радость моя, Серафим-то убогой?» Тут только поняла я, что вижу самого старца, и, повалившись в ноги, стала просить его помолиться обо мне, недостойной.
— Встань, дочь Ирина, — молвил подвижник и сам нагнулся меня приподнять,— я ведь тебя поджидал, не хочу, чтоб, уставши, даром прошлась.
Удивленная, что, впервые видя, зовет он меня по имени, я от ужаса вся затрепетала, не могла и слова промолвить, только взирала на его ангельский лик. Взяв мою правую руку, старец сложил на ней по-православному персты для крестного знамения и сам перекрестил меня ими, говоря:
— Крестись так, крестись так, так Бог нам велит.
…Духом провидел старец святой, что, не отдохнувши, прямо с дороги к нему я пошла, и, утаившись от других, мне одной он явился».
Ехал один барин, ежегодно бывавший в Сарове, к отцу Серафиму, а с ним были жена и десятилетний сын. Мальчик любил духовные книги, читал жития святых и мало обращал внимания на прочее. Дорогой его мать сетовала: «Дети наши слишком уже привязаны к одним только священным книгам — вовсе не заботятся о своих уроках, о науках и обо всем, необходимом в свете…»
Отец Серафим принял их ласково и благословил пробыть в саровской гостинице три дня.
Благословляя жену, он сказал:
— Матушка, матушка! Не торопись детей-то учить по-французски и по-немецки, а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом.
Некая женщина из Томска много странствовала по святым местам. Зашла она в город Ачинск к известному там старцу Даниилу принять благословение. Тот встретил ее на пороге гневными словами:
«Что ты, пустая странница, пришла ко мне?.. Зачем ты бродишь по свету да обманываешь Бога и людей? Тебе дают деньги на свечи и на молебны, а ты тратишь их на свои прихоти… Ступай и живи в Томске, питайся от своего рукоделия, чулки вяжи, а когда устареешь — собирай милостыню. Да не ходи больше по России!»
Она послушалась его и полгода сидела в Томске, а потом родственники и знакомые упросили ее ехать с ними по святым местам и быть путеводительницей. И вот она в Сарове. Отец Серафим благословил всех спутников ее, а самое прогнал, не дав и сухарика. Через несколько дней, пожив в Саровской пустыни, странники благословились у старца в дорогу. Их вожатая, не зная, что делать, подошла к двери келлии старца и со слезами просила благословить и ее.
Отец Серафим вышел и грозно сказал ей:
— Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить. Ступай домой!
— Батюшка! Благослови сходить в последний раз, больше уж не буду.
— Я тебе сказал — ступай назад!
— Батюшка, как же я пойду назад одна, такой дальний путь и денег нет…
— Ступай, ступай обратно! И без денег довезут на лошадях до самого Томска.
Тут он благословил ее, дал сухарик и затворился. Странница пошла назад, в Нижнем Новгороде встретила томских купцов, и они довезли ее безденежно до дому.
А одному иноку саровскому подумалось, что уже близок конец света, и он спросил об этом отца Серафима.
— Радость моя! — ответил он. — Ты много думаешь о Серафиме убогом. Мне ли знать, когда будет конец миру сему и наступит великий день, в который Господь будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его! Нет, сего мне знать невозможно.
Инок же не сомневался, что старец этот день знает. Пал он к ногам батюшки, а он воздвиг его и продолжал:
— Господь сказал Своими пречистыми устами: О дни же том и часе никтоже весть, ни Ангели небеснии, токмо Отец мой един. Якоже бо быстъ во дни Ноевы; тако будет и пришествие Сына Человеческаго. Якоже бо бяху во дни прежде потопа, ядуще и пиюще, женящеся и посягающе, до негоже дня вниде Ное в ковчег, и не уведеша, дондеже прииде вода и взят вся: тако будет и пришествие Сына Человеческаго (Мф. 24, 36—39).
Помолчав, старец продолжал со вздохом:
— Мы, на земле живущие, много заблудили от пути спасительного; прогневляем Господа и нехранением святых постов; ныне христиане разрешают мясо и во Святую Четыредесятницу, и во всякий пост; среды и пятницы не сохраняют… А Церковь имеет правило: нехранящие святых постов и всего лета среды и пятницы много грешат. Но не до конца прогневается Господь, паки помилует. У нас вера, Православная Церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие в щит, и во броню правду: сих врата адова не одолеют!
Составил Виктор АФАНАСЬЕВ
[1]Предсказание исполнилось лет сорок спустя.
[2]Во время перенесения мощей преподобного Серафима Саровского из Москвы в Дивеево (23 июля — 1 августа 1991 года) многочисленные участники крестного хода пели пасхальный канон.