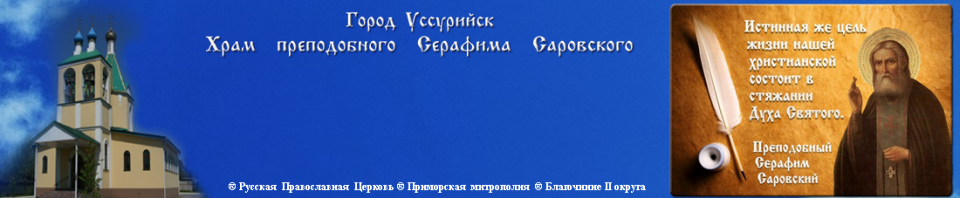Преподобный Серафим Саровский. Икона нач. XX века из храма во имя святого апостола Филиппа в Новгороде
16 июня 1806 года Саровская пустынь отпраздновала свое столетие. Отец Серафим был на торжественной службе и на молебне, а также и на «великом утешении» братии в трапезной. Много прибыло на праздник духовного начальства, монахов из других обителей и мирян. Далеко разливался колокольный звон под жарким солнечным небом, над бескрайними муромскими лесами. Ни один странник не остался в этот день без внимания. Затем жизнь монастырская сразу вощла в свои обычные берега.
Старец Исаия в том году освятил надвратный храм Святителя Николая, чем закончилось благоустройство новой колокольни. В Петербурге завершилось длившееся с 1802 года дело о спорных землях — в пользу Саровской пустыни. Но братии печально было видеть, как их настоятель угасает от недугов, быстро стареет — ему исполнилось в 1806 году шестьдесят пять лет — и все меньше занимается делами. С осени он стал говорить о своей замене, указывая на отца Серафима как на своего преемника.
У братии не было никаких сомнений, что отец Серафим будет настоятелем, тем более что старец Исаия все лето имел тесное духовное общение с ним,— кроме того, что они виделись в монастыре, отец Исаия, уже потерявший возможность ходить, навещал отца Серафима в его пустыньке — двое послушников возили его туда на тележке. В феврале 1807 года старец Исаия подал прошение об увольнении на покой. В Саровской пустыни состоялись выборы нового настоятеля, но отец Серафим решительно отказался занять место старца Исаии, и настоятелем стал иеромонах Нифонт, казначей. В декабре 1807 года отец Исаия скончался. Теперь, приходя в монастырь, отец Серафим шел к Успенскому собору, к могилам трех своих наставников-старцев, Иосифа, Пахомия и Исаии, и припадал к ним с молитвой. Отец Нифонт уже не мог быть его наставником, хотя и был духовником братии последние десять лет,— духовный возраст отца Серафима был намного выше.
С начала 1808 года отец Серафим вступил в новый этап духовного совершенствования, дав обет молчания. Его вдохновили примеры великих безмолвников древности — святых преподобных Арсения Великого и Иоанна Молчальника. Келлия святого Арсения в Фиваиде находилась от скита на таком же расстоянии, как и пустынька отца Серафима от монастыря,— тридцати стадий (пяти верст). Скитская братия весьма скорбела о том, что имеющий от Бога дар наставлять и просвещать иноков Арсений избегает их. Точно так же сожалела о подобном и братия Саровской пустыни. Вот ответ Арсения Великого (в том же духе дал ответ на сходное вопрошание и отец Серафим): «Знает Бог, как я люблю вас; но я не могу пребывать одновременно и с Богом и с людьми, потому что на небе хотя и очень много вышних сил, но все они имеют одну волю и потому единодушно славят Бога; но на земле много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли; каждый из нас имеет различные намерения и мысли, и потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми».
Один саровский инок, задумавший, подобно отцу Серафиму, поселиться в лесу (это было еще при жизни старца Исаии), спросил его:
— Отче! Говорят некоторые, что удаление от общежительства в пустыню есть фарисейство, что этим оказывается пренебрежение к братии, а может даже и бросает на нее осуждение. Как ты думаешь?
— Не наше дело судить других, — отвечал отец Серафим.— А удаляемся мы из общества братства не из ненависти к нему, а более для того, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божиим, как это случается неизбежно при множестве братии. Мы избегаем не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков, ими творимых, как и великому Арсению сказано было: «Бегай людей и спасешься»[1].
С безмолвником Дух Святой пребывает, но редкому иноку доступен подвиг молчания. «Много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои, но о молчании я не жалел никогда»,— говорил святой Арсений. Святой Амвросий Медиоланский писал: «Паче всего должно укрощать себя молчанием, ибо молчанием многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни единого». Преподобный Арсений был воспитателем детей царя Феодосия, невольно пребывал в роскоши, но, тяготясь такой жизнью, тайно сел на корабль, бежал в Египет и сделался иноком. Святой же Иоанн Молчальник был епископом, всеми почитаемым за добродетели, но и он, мечтая о безвестном житии и о безмолвии, тайно бежал в окрестности Иерусалима и принял облик простого инока. Он жил в монастыре, где настоятельствовал Савва Освященный, который дал отцу Иоанну келлию, в которой тот и безмолвствовал три или четыре года. Потом он удалился в пустыню Рува, к Мертвому морю, и жил здесь девять лет, питаясь одной травой, называемой мелагрия (а у отца Серафима — снить). Великие подвижники древности учились друг у друга. Отец Серафим многажды перечитывал их жития, видел их самих духом, каждый их поступок толковал, и многие из них — малые и великие дела ради Господа — повторялись в его жизни, родня его с миром православных святых.
Удаление от людей и молчание уст — это лишь внешние, хотя и необходимые, признаки подвига безмолвия. Главное — безмолвие ума, заключенного в созерцании Бога, к чему и стремится молчальник, душу свою хотящий возвести на небо. «Когда мы в молчании пребываем, — поучал позднее отец Серафим, — тогда враг, диавол, ничего не успеет относительно к потаенному сердца человеку: сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От уединения и молчания рождаются умиление и кротость: действие сей последней в сердце человеческом можно уподобить тихой воде Силоамской, которая течет без шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия (Ис. 8, 6)… Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом». Не может достигнуть никаких плодов в молчании человек, подверженный греховным состояниям тщеславия, раздражения, лености, уныния, памятозлобия, чревоугодия… Душа безмолвника — приуготовленный, чисто подметенный храм, ведь, как говорит преподобный Иоанн в своей «Лествице», «безмолвие есть непрерывная служба Богу и предстояние пред Ним».
На этом остановлюсь, потому что даже преподобный Иоанн Лествичник рассуждает о молчании с осторожностью, ведь это, как сказал отец Серафим,— «таинство будущего века». Митрополит Вениамин (Федченков), едва начав рассказ о подвиге молчания, к которому приступил отец Серафим, прерывает себя словами: «Почтим и мы сей подвиг его молчанием, не будем дерзать входить внутрь скинии души его своим неопытным умом и нечистыми мыслями: там место Пречистому Духу Божию».
Что касается внешнего, то отец Серафим перестал выходить к посетителям, а если встречал кого-то в лесу, то, подобно Арсению Великому, падал ниц и молча ждал, когда тот пройдет. Через какое-то время отец Серафим перестал ходить в обитель в воскресные и праздничные дни. Настоятель отец Нифонт стал посылать к нему раз в неделю послушника с недельным запасом хлеба, елея, а зимой — овощей. Зимой тропу заносило снегом, и послушник с трудом пробирался по сугробам. На молитву его отец Серафим, сказав мысленно «аминь», открывал дверь в сени и молча стоял, сложив на груди руки, не отвечая на вопросы, если таковые случались, опустив очи долу. Послушник клал принесенное в приготовленную корзинку или на лоточек, куда отец Серафим полагал кусочек хлеба или листик капусты — намек на то, что следует принести на следующей неделе. Послушник все замечал и затем доставлял требуемое. Уходя, он творил молитву и кланялся отцу Серафиму в ноги.
Довольно продолжительное время, может быть года полтора, отец Серафим совсем не являлся в обитель, даже в праздники, а значит, и не причащался там Святых Христовых Таин. Для кого-то из братии это было искусительно. Но отец Нифонт и старшие иеромонахи понимали, что без вкушения Тела и Крови Христовых отец Серафим не остается. Кто же его причащал?.. Скорее всего Ангел Божий. Однако это была тайна, которой отец Серафим никому не открывал.
Отец Нифонт посовещался со старцами и решил, ради братии, предложить отцу Серафиму на выбор: чтобы он «или ходил, буде здоров и крепок ногами, по-прежнему в обитель по воскресным и праздничным дням для причащения Святых Таин, или же, если ноги не служат, перешел бы навсегда жительствовать в монастырскую келлию». Это передали безмолвнику через носившего ему пищу брата. Отец Серафим выслушал пришедшего, но отпустил его назад, не дав никакого ответа. Отец Нифонт в следующее воскресенье велел брату повторить решение старцев. На этот раз отец Серафим, благословив брата, отправился с ним в монастырь.
Это было 8 мая 1810 года, в день святого апостола Иоанна Богослова. Отец Серафим явился на всенощное бдение в храм Успения Богородицы, наутро же, в день Святителя и Чудотворца Николая, был у ранней литургии в больничной церкви преподобных Зосимы и Савватия, а оттуда прошел в келлию отца Нифонта. Приняв от настоятеля благословение, отец Серафим молча прошел в свою келлию и сразу начал еще более трудный подвиг — затвор. Он положил себе не выходить из келлии, не принимать никого и ни с кем не говорить. Он отворял дверь перед Святыми Дарами, которые приносили ему из больничного храма, и для принятия пищи. Тело и Кровь Христовы отец Серафим принимал, стоя на коленях в дверях келлии. Таким же образом принимал и пищу — как бы из рук Самого Христа. Пищу — в основном хлеб, толокно и квашеную капусту — ему приносил монах отец Павел, живший в соседней келлии. Отец Серафим, накрыв голову полотном (по примеру древних иноков), чтобы его никто не видел, да и самому чтобы не видеть никого, брал приносимое и выставлял за дверь освободившуюся посуду. В первые годы затвора келлия отца Серафима была совершенно пуста. В углу стоял столик (его собственной работы), над столиком висела икона Богоматери «Всех Радостей Радость», перед столиком — чурбачок, заменявший отцу Серафиму стул. Была в келлии печь-голландка с лежанкой, отделанная изразцами, но топил ее отец Серафим редко — в сенях, где была топка, подолгу лежала одна и та же вязанка дров.
Молитвенные труды отца Серафима в затворе, по свидетельству саровских иноков и авторов первых жизнеописаний преподобного, а также по некоторым признаниям его самого, были необыкновенно велики и разнообразны. Он продолжал совершать во всей полноте свое пустынническое правило и вычитывать все ежедневные, кроме литургии, службы. Не оставил он, конечно, и Иисусовой молитвы. «Иногда, стоя на молитве, — пишет Н. В. Елагин, автор одного из первых житий преподобного,— старец погружался в продолжительное умное созерцание Бога: он стоял пред святою иконою, не читая никакой молитвы и не кладя поклонов, а только умом в сердце созерцая Господа… Высока и глубока эта безмолвная затворническая молитва!» Далее тот же автор (а за ним и все последующие биографы святого) пишет: «В течение недели он прочитывал весь Новый Завет по порядку: в понедельник — Евангелие от Матфея, во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг — от Иоанна, в остальные дни — Деяния и послания св. апостолов. В сенях, сквозь дверь, иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя Евангелие и Деяния св. апостол. Деяния св. апостол он толковал вслух, довольно продолжительное время. Многие приходили и слушали его слово в сладость, утешение и назидание. Иной же раз он сидел над книгой, не перебирая листов, будучи весь погружен в созерцание чистой, возвышенной мысли Св. Духа. Ни один орган тела его не шевелился: очи неподвижно устремлены были на один предмет».
В эти годы — первые пять лет затвора — появился в сенцах келлии отца Серафима массивный дубовый гроб, выдолбленный им из огромной колоды. Он всегда был открыт (крышка стояла у дверей), как бы напоминая затворнику о смертном часе. Отец Серафим нередко молился возле него на коленях. «Если помышление о смерти укоренится в человеке,— писал святой Исаак Сирин,— то ум его не остается уже более в стране обольщения и бесовские хитрости к нему не приближаются». «Как хлеб нужнее всякой другой пищи,— говорит Иоанн Лествичник,— так размышление о смерти нужнее всех деланий… Невозможно, невозможно настоящий день провести благочестиво, если не будем считать его последним днем нашей жизни. Уверимся, что памятование смерти, как и всякое благо, есть дар Божий».
Многие подвижники древности или имели гроб у себя в келлии (иные даже недолгие часы своего сна проводили в нем), или жили в могильных пещерах (как святой Антоний Великий). Впоследствии, когда окончился затвор отца Серафима, когда он стал принимать посетителей, первое, что они видели, входя к нему, был гроб — первое поучение, наглядное и безмолвное, для всякого, ищущего наставлений прозорливого старца. А праздно любопытствующих — ведь и такие приходили — гроб просто пугал.
В августе 1815 года к празднику Успения Божией Матери (храмовый в Саровской пустыни) прибыл в обитель Владыка Иона, епископ Тамбовский. Он много был наслышан о подвигах старца Серафима, и вот, пожелав его видеть, пришел к его келлии вместе с настоятелем, старцем Нифонтом. Владыка сотворил молитву, а настоятель громко объявил, чтобы отец Серафим слышал, что Его Преосвященство здесь, у дверей. Отец Серафим ничего не отвечал. Старец Нифонт предложил снять дверь с петель, чтобы все-таки увидеть безмолвника, но епископ не согласился, сказав:
— Как бы не погрешить нам!
И уехал.
Очень похожий случай был в древности со святым Арсением. Архиепископ Александрийский, желая прийти к нему, послал ему запрос, примет ли он его в своем уединении, отворит ли двери. Арсений отвечал: «Если для тебя отворю, то и для всех отворю». И епископ смирился, сказав себе: «Лучше мне не ходить к нему».
Чуть ли не на следующий день после отъезда Владыки Ионы удостоился отец Серафим великого чуда — явления Божией Матери (уже в четвертый раз!). С нею были египетский пустынник святой Онуфрий, одетый лишь длинными седыми волосами головы и бороды и поясом из пальмовых листьев, и первонасельник Святой Афонской Горы святой Петр, также нагой, опоясанный по чреслам травяным поясом, — подвижники, ведшие в течение многих десятилетий страшную борьбу с диаволом и стяжавшие Духа Святаго. Пречистая Дева, Матерь Божия, обратилась к отцу Серафиму и повелела более не скрывать себя от людей и отворить двери. «Скоро, — сказала Она,— ты будешь служить людям».
Через неделю после отъезда из Саровской пустыни епископа Ионы приехал сюда с супругой тамбовский губернатор Александр Михайлович Безобразов. Они хотели принять от отца Серафима благословение, но их уверили, что на это рассчитывать никак нельзя. Они, однако, подошли к дверям келлии и помолились: Молитвами святых отец наших… И вдруг старец отворил двери и внимательно посмотрел на них. Он был в чистейшем белом подряснике и весь седой и согбенный, лицо его, показалось им, излучало свет. Молча сложили они крестообразно свои ладони, и отец Серафим благословил их, не сказав, однако, ни слова.
Окончив затвор (и то частично), отец Серафим продолжал молчать. Он открывал дверь и впускал к себе всех, кто хотел войти, благословлял, но продолжал и при посторонних заниматься своими делами — читать, молиться, сидеть неподвижно в размышлениях… Такое молчание длилось еще три года. Потом он начал понемногу беседовать с приходящими людьми, исповедовать, все еще не покидая келлии. Вскоре обыкновенной для Саровской пустыни стала такая картина: весь день перед келлией отца Серафима стоит множество людей, иные из которых пришли издалека. Все ждут, не появится ли на пороге батюшка-прозорливец, и если не удастся побеседовать с ним о своем, то хотя благословиться…
Вид его келлии к началу 1820-х годов несколько изменился. Она уже не была совершенно пустой. В сенях стоял в полумраке гроб, и около него лежали мешки с песком и несколько значительного размера камней — ложе для краткого сна. В самой келлии сразу у входа — бутыли и кувшины с елеем, вином и водой. Посетители во множестве приносили ему вино, елей, свечи, полотно, и почти все это он отдавал в Дивеевскую общину. Здесь же — корзина с сухариками, которые старец сушил в своей печке. На средине келлии несколько церковных свещниц с постоянно горящими свечами. В красном углу иконы, в другом, на деревянном гвозде, мантия, шуба, а на веревке, протянутой вдоль печи, — какие-то рубища. Пространство между рамами двух небольших окон до половины забросано ветошью. При такой тесноте и закрытых окнах, казалось бы, здесь нечем дышать. Но нет, посетители с удивлением чувствовали в келлии отца Серафима приятную свежесть воздуха. Позднее прибавилось еще несколько свещниц, многие просили поминать их, и отец Серафим ставил принесенные свечи.
О жизни подвижника в 1815—1822 годах сведений почти не сохранилось. В 1822 году приехала к нему жена некоего управляющего имением в Нижегородской губернии, которую звали Агриппиной. Муж ее сильно занемог и послал ее просить для него молитв и благословения у отца Серафима (у которого незадолго до этого побывал сам), а также ответа — можно ли ему надеяться на выздоровление.
«По прибытии моем туда,— вспоминала Агриппина,— нашла, что отец Серафим затворился и никого не принимал. Несмотря на то, я пробралась сквозь множество народа к его келлии, и вдруг старец Божий, как бы провидя мою крайнюю нужду видеть его, показался в дверях своей келлии и, не обращая внимания на остальной народ, обратился ко мне и сказал: «Дочь Агриппина, подойди ко мне скорее, потому что тебе нужно поспешить домой». Когда я подошла к нему, он, предупреждая слова мои, дал мне святой воды, антидора, красного вина и несколько сухарей и сказал: «Вот, скорее вези это к своему мужу». Потом, взяв мою руку, он положил ее к себе на плечо и, дав осязать бывший на нем большой железный крест, сказал: «Вот, дочь моя, сперва мне было тяжело носить это, но ныне весьма приятно. Спеши же теперь и помни мою тяжесть»[2]. С сими словами он благословил меня и ушел опять в свою келлию… По приезде домой я нашла своего мужа при последних минутах жизни… Едва дала я, по приказанию отца Серафима, больному красного вина с антидором и потом святой воды, больной снова заговорил и сказал: «Прости меня, святой отец, в последний раз получаю от тебя благословение». После этих слов он благословил еще детей наших, простился со мною и, сказав: «Велики дела отца Серафима!» лег снова и мирно отошел ко Господу».
Отец Серафим пришел в ту меру безмолвия, о которой говорит святой Исаак Сирин: «Когда, по долгом времени, в келлии твоей, среди дел труда и хранения того, что сокровенно, и при воздержании чувств от всякой встречи, осенит тебя сила безмолвия; тогда сретишь сперва радость, без причины овладевающую по временам душою твоею, и потом отверзутся очи твои, чтобы, по мере чистоты твоей, видеть крепость твари Божией и красоту созданий. И когда ум путеводится чудом сего видения, тогда и ночь и день будут для него едино в славных чудесах созданий Божиих. И с сего времени в самой душе похищается чувство страстей приятностию сего видения, и в оном-то, в следующем за ним порядке, начиная с чистоты и выше, восходит ум еще на две степени мысленных откровений».
И вот, когда отец Серафим достиг этой высоты бесстрастия и смиренномудрия, он, подобно святому Антонию Великому и другим великим безмолвникам, призван был из своей пустыни на служение ищущим спасения. Ему даны были от Бога удивительные, бесценные дары — «дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания». Он призван был силою Господнею на спасение тысяч и тысяч душ.
В большинстве случаев это были крестьяне, купцы. Много было монахов, священнослужителей. Реже приходили к отцу Серафиму лица дворянского звания и военные. Но одним из первых после окончания затвора побывал у старца некий генерал-лейтенант Л. Этот важный и гордый человек приехал в Саровскую пустынь просто так, из любопытства. Собираясь после беглого осмотра зданий уехать, он встретил здесь приятеля, помещика П. Тот убедил его зайти вместе с ним в келлию великого подвижника. Генералу этого не хотелось, но он уступил просьбам товарища и вошел в келлию. Отец Серафим, увидев их, подошел к генералу и поклонился ему земным поклоном. Такое смирение поразило гордеца. Затем, оставив помещика П. в сенях возле гроба, отец Серафим закрылся в келлии с генералом и начал беседовать с ним. Через несколько минут из-за дверей послышался плач — то плакал генерал, которому отец Серафим рассказал всю его жизнь до самых сокровенных подробностей. Вскоре отец Серафим вывел его, еще плачущего, в сени, а потом вынес забытые им фуражку и… ордена. По преданию, ордена эти во время беседы сами свалились с груди генерала, причем отец Серафим будто бы сказал: «Это потому, что ты получил их незаслуженно».
Вообще, каждый раз, когда у него бывали военные и правительственные чиновники, отец Серафим обращал особенное внимание на важность сана и место, где они служат, просил их быть верными Государю и Отечеству, жертвуя для этого даже самой жизнью своей. Он умолял их охранять Православную Церковь. «Этого, — говорил он,— ждет от вас народ русский, к этому должна побуждать вас совесть, для сего избрал вас и возвеличил Государь, к этому призывает и Сам Господь Бог, Ее Основатель и Хранитель».
Существует легенда, что император Александр I в 1824 (или 1825) году побывал инкогнито у старца Серафима. Один монах, сосед по келлии, заметил, что старец будто кого-то ожидает, чего с ним никогда не бывало. Он прибрал и подмел келлию, а под вечер вышел на крыльцо в епитрахили и поручах. Действительно, уже на закате зазвенели бубенцы и на монастырский двор влетела тройка. Высокий военный вышел из экипажа и снял фуражку. Отец Серафим поклонился ему в ноги и сказал: «Здравствуй, великий Государь»,— потом, взяв его за руку, увел к себе. Часа через три они вышли. Отец Серафим проводил военного до экипажа и, поклонившись, сказал: «Сделай же, Государь, так, как я тебе говорил». Снова зазвенели бубенцы и тройка исчезла… Это вполне могло быть. Точно так же, просто, император Александр I побывал и на Валааме, где стоял на службе вместе с монахами, не знавшими, кто он. На вопрос одного из них: «Кто вы?» — он ответил: «Путешествующий».
Если истинен рассказ о посещении отца Серафима офицерами-декабристами, то этого не могло быть в пустыньке (как писали в житиях), так как отец Серафим окончил затвор свой 25 декабря 1825 года, а восстание декабристов произошло 14 декабря. Они могли побывать у отца Серафима только в его монастырской келлии. Первым писал об этом в 1844 году игумен Георгий, в послушниках имевший имя Гурий. Он вспоминал, что к отцу Серафиму приехали «блестящие офицеры» и попросили его благословения. Он же отказался их благословлять и выгнал из своей келлии. Они пришли на другой день и встали перед ним на колени, но старец прогневался еще сильнее, так что затопал ногами и велел им немедленно уйти. Опечаленные офицеры уехали. Тогда послушник Гурий осмелился сказать:
— Батюшка, отец Серафим! Почему ты, всегда такой ласковый и приветливый ко всем, так сердито прогнал этих хороших, смиренных господ?
В ответ на это отец Серафим взял келейника за руку, отвел к одному из родников и повелел:
— Смотри.
Гурий посмотрел в воду — она была так прозрачна, что каждый камешек на дне был виден.
— Смотри дальше,— сказал старец.
Келейник увидел, как дно вдруг замутилось, камешки скрылись во мраке и вся вода почернела.
— Вот что они хотят сделать с Россией,— сказал отец Серафим.
А с какой любовью относился он к простым мужикам, приходившим к нему (а то и прибегавшим бегом) со своими неотложными бытовыми нуждами. Так вот прибежал один из ближайшей — шесть верст — деревни, растрепанный, с шапкой в руке, увидел какого-то монаха:
— Батюшка! Ты, что ли, отец Серафим?
Ему указали келлию старца. Мужик бросился в келлию и торопливо заговорил:
— Батюшка! У меня украли лошадь, и я теперь без нее совсем нищий, не знаю, как буду кормить семью… А говорят, ты угадываешь.
Отец Серафим припал головой к его голове и сказал:
— Огради себя молчанием и поспеши в село (он назвал какое)… Когда будешь подходить к нему, свороти с дороги вправо и пройди задами четыре дома, там ты увидишь калиточку, войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча.
Так все и было. Крестьянин действительно отыскал свою лошадь.
Но и крестьяне бывали разные.
Уже несколько лет, как отец Серафим узнал семейство крестьян Мелюковых из деревни Погиблово Ардатовского уезда — брата и двух сестер. Брат, Иван Семенович, нередко приходил работать в монастырь. Сестра, Прасковья Семеновна, по благословению старца ушла послушницей в Дивеевскую общину. Она прибыла туда в ноябре 1823 года, в праздник Введения во храм Пресвятыя Богородицы. С ней «увязалась» и младшая сестра ее, Мария Семеновна, тринадцати лет, которую отец Серафим также благословил жить в Дивееве. Это была, как пишет автор «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», «необыкновенная, не виданная доселе отроковица, ни с чем не сравнимая, ангелоподобная, дитя Божие. Избранница и раба Божия с таких лет вела подвижническую жизнь, превосходя по суровости даже сестер общины, отличавшихся строгостию жизни, начиная с самой начальницы Ксении Михайловны. Непрестанная молитва была ее пищею и только на необходимейшие вопросы она отвечала с небесною кротостию. Она была почти молчальница, и батюшка Серафим особенно нежно и исключительно любил ее, посвящая во все откровения свои, будущую славу обители и разные тайны, заповедуя не говорить о том до времени, что и выполняла она свято, невзирая на просьбы и мольбы окружающих сестер и родных. Когда она возвращалась от батюшки Серафима, то вся сияла неземною радостию». У брата Ивана было три дочери, которые впоследствии стали дивеевскими монахинями, да и сам он, в конце концов, постригся в Саровской обители, где и получил послушание привратника.
С другим семейством, но уже дворянским, хотя не богатым и не знатным, связано одно из величайших событий в духовной жизни старца Серафима… он впервые, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, исцелил человека от тяжкой болезни. Это была семья Мантуровых — Михаил Васильевич, отставной военный, его жена, Анна Михайловна, и его сестра, Елена Васильевна, бывшая гораздо моложе брата. Михаил Васильевич служил в Лифляндии, там женился, но там и заболел. У него опухли и гноились ноги, он постепенно терял возможность ходить — из ран стали выпадать даже мелкие крошки костей… Михаил Васильевич обращался ко многим врачам, истратил на это много денег, но болезнь имела, видимо, некую промыслительную цель. Оставив службу, он жил в своем имении в Ардатовском уезде, в сорока верстах от Саровской пустыни. Многие советовали ему поехать к отцу Серафиму: он, мол, если и не исцелит, то подаст верный совет — где и как вылечиться. Это было в 1823 году.
Мантуров поехал. И вот двое крепостных Мантурова ввели его в сенцы келлии отца Серафима. Старец вышел к нему и спросил:
— Что пожаловал? Посмотреть на убогого Серафима?
Мантуров упал ему в ноги и стал просить помочь ему, избавить от тяжкого недуга.
— Веруешь ли ты Богу?
— Верую!
Трижды так вопрошал старец, а больной трижды, с силой, с горячим и искренним убеждением, отвечал:
— Верую!
— Радость моя! Если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога, а потому веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь.
Посадив Михаила Васильевича около гроба на мешок с песком, старец удалился в келлию. Спустя немного времени он вышел, неся в стаканчике святой елей, и велел Мантурову обнажить ноги.
— По данной мне от Господа благодати, — сказал он, помазывая ноги больного елеем, — я первого тебя врачую.
Затем надел ему на ноги посконные чулки, принесенные ему в дар одним крестьянином, велел ему одеться и вынес из келлии в обеих пригоршнях сухариков. Всыпав Мантурову эти сухарики в полу сюртука, он приказал ему встать и идти в гостиницу. Михаил Васильевич встал и, никем не поддерживаемый, твердо пошел, пораженный и обрадованный тем, что не чувствует ни слабости, ни боли. Повернувшись к старцу, он пал ему в ноги и стал благодарить за исцеление. Старец, подняв его, строго сказал:
— Разве Серафимово дело мертвить и живить, низводить во ад и возводить. Что ты, батюшка! Это — дело единого Господа, который творит волю боящихся Его! Господу Всемогущему да Пречистой Его Матери даждь благодарение!
Возвратившись в свое имение, Михаил Васильевич очень порадовал супругу и сестру своим выздоровлением. Так шли дни, но однажды он вдруг вспомнил слова отца Серафима о благодарении Господа и Пречистой Матери Его и, смущенный, поехал к батюшке. Тот, увидев его, сразу сказал:
— Радость моя! А ведь мы обещались благодарить Господа, что он возвратил нам жизнь-то!
— Я не знаю чем и как, — отвечал Мантуров. — Что вы прикажете?
Отец Серафим проницательно взглянул ему в глаза и ответил:
— Вот, радость моя, все, что ни имеешь, отдай Господу и возьми на себя добровольную нищету.
Смутился Мантуров… Вспомнил он тут и о евангельском богатом юноше, и о молодой жене своей, и о сестре, которая мечтала о светской жизни и замужестве… Но отвечать надо, и ведь не старцу, а Самому Богу! Прозорливый старец прочитал эти его смятенные мысли и тронул его за плечо:
— Оставь все и не пекись о том, о чем ты думаешь. — Господь тебя не оставит ни в сей жизни, ни в будущей. Богат не будешь, хлеб же насущный все будешь иметь.
При этих словах необъяснимая радость вдруг вспыхнула в душе Мантурова:
— Согласен, батюшка! Что же благословите мне сделать?
— А вот, радость моя, помолимся, и я укажу тебе, как вразумит меня Бог.
В дальнейшем Михаил Васильевич ничего уже не делал без благословения отца Серафима. Он отпустил на волю своих крепостных, продал ардатовское имение со всеми угодьями, затем купил пятнадцать десятин земли в селе Дивееве, на указанном ему отцом Серафимом месте,— старец наказал ему впоследствии этой земли не продавать, а завещать после своей смерти Дивеевской женской общине. Михаил Васильевич построил тут домик и стал жить бедно, постоянно терпя упреки жены и насмешки знакомых за свой евангельский поступок. Скоро он стал вернейшим учеником и другом отца Серафима, который звал его не иначе как «Мишенька». Все, что касалось устройства Дивеевской обители, он стал поручать ему.
В том же, 1823 году отец Серафим призвал к себе Мантурова, дал ему остро заточенный колышек, поклонился ему в ноги и велел идти в Дивеево, стать напротив среднего алтарного окна Казанской церкви, отсчитать столько-то шагов, а там будет межа, и от нее далее отсчитать еще столько-то шагов — тут будет пашня, потом еще столько-то шагов — и должна быть на этом месте луговина, ровно в середине которой отец Серафим велел вбить этот колышек. Мантуров пошел, все исполнил и был совершенно потрясен тем, с какой точностью, не быв на этом месте, отец Серафим рассчитал шаги… А для чего это было нужно, Михаил Васильевич понял позднее, года через два: отец Серафим задумал строить тут мельницу («мельницу-питательницу») в два постава (постав — пара жерновов. — Ред.) и отделить сюда, в «мельничную» общинку, девиц-послушниц из Дивеевской общины, в которой оставить вдов (но могут быть и девицы). Через год, в 1824-м, отец Серафим дал Михаилу Васильевичу четыре колышка, перекрестился, поцеловал их и, заставив сделать то же Мантурова, поклонился ему в ноги и был очень радостен. Эти колышки он просил вбить по углам луговины.
Сестре Михаила Васильевича Елене было в 1823 году около восемнадцати лет. К вере она была равнодушна, у нее был богатый жених, и она уже собиралась венчаться с ним, как вдруг отказала ему. На вопросы брата она отвечала, что и сама не понимает: «Он мне не дал повода разлюбить себя, но, однако, страшно мне опротивел!» Вскоре скончался дед Мантуровых по матери, богатый человек. Нужно было срочно ехать. Михаила Васильевича дома не оказалось, и Елена Васильевна отправилась в карете с дворовыми людьми.
На обратном пути остановились в городке Княгинине (Нижегородской губернии), слуги пошли на станцию приготовить чай, а она осталась сидеть в карете, почти у станционного крыльца. Лакей, вышедший звать ее к чаю, сошел со ступенек и невольно вскрикнул при виде открывшейся ему картины. «Она стояла во весь рост, совершенно опрокинувшись назад, едва держась конвульсивно за дверцу полуоткрытой кареты, и на лице выражался такой ужас и страх, что немыслимо передать его словами. Немая, с сильно увеличенными глазами, бледная как смерть, она уже не могла держаться на ногах, казалось — еще момент, и она упадет на землю замертво».
Лакей подхватил ее, прибежали другие люди, и Елену Васильевну, потерявшую сознание, внесли в комнату. Горничная, подумавшая, не умирает ли барышня, несколько раз спрашивала ее — не позвать ли священника. Елена Васильевна услышала и ответила: «Да, да…». Она еще пребывала в страхе. Священник исповедал и причастил ее Святых Таин, и она весь день не отпускала его от своей постели, держась за его рукав… Наконец она смогла встать и отправиться домой. А дома она рассказала вот что: «Оставаясь одна в карете, я немного вздремнула, и когда открыла глаза, то никого не было по-прежнему около меня. Наконец вздумала выйти и сама открыла дверцу кареты, но лишь ступила на подножку, невольно почему-то взглянула вверх и увидела я над своей головой огромного страшного змия. Он был черен и страшно безобразен, из пасти его выходило пламя, и пасть эта казалась такою большою, что я чувствовала, что змий совершенно поглотит меня. Видя, как он надо мною вьется и все спускается ниже и ниже, даже ощущая уже дыхание его, я в ужасе не имела сил позвать на помощь, но, наконец, вырвалась из охватившего меня оцепенения и закричала: Царица Небесная! Спаси! Даю Тебе клятву никогда не выходить замуж и пойти в монастырь! Страшный змий в одну секунду взвился вверх и исчез… Но я не могла прийти в себя от ужаса!»
Елена Васильевна поехала к отцу Серафиму просить его благословения на поступление в монастырь. Батюшка все знал наперед. Он уже видел ее одной из самых строгих дивеевских монахинь, но по ему ведомым причинам решил провести ее сначала через некоторые испытания.
— Нет, матушка, что это ты задумала! — воскликнул он.— В монастырь! Нет, радость моя, ты выйдешь замуж.
— Что это вы, батюшка! — испугалась Елена Васильевна. — Ни за что не пойду замуж, я не могу, я дала обещание Царице Небесной идти в монастырь, и Она накажет меня.
— Нет, радость моя, — продолжал старец,— отчего же тебе не выйти замуж? Жених у тебя будет хороший, благочестивый, матушка, и все тебе завидовать будут. Нет, ты и не думай, матушка, ты непременно выйдешь замуж, радость моя!
— Что это вы говорите, батюшка, да я не могу, не хочу я замуж.
— Нет, нет, радость моя,— твердил старец,— тебе уже никак нельзя, ты должна и непременно выйдешь замуж, матушка!
Отец Серафим говорил все это иносказательно, и жених у него здесь — Сам Господь, Иисус Христос, но Елена Васильевна не могла этого понять. Она приехала домой очень огорченная, всю ночь молилась, плакала, просила Матерь Божию помочь ей. Несколько раз ездила она к отцу Серафиму, а он все убеждал ее идти «замуж». Целых три года испытывал он ее. Она дошла почти до отчаяния, так как желание быть в монастыре росло и укреплялось. И вот она не выдержала и, уже не спросясь отца Серафима, обратилась в Муромский Троицкий монастырь, где мать-игумения приняла ее очень тепло и разрешила купить в своей обители келлию, что Елена Васильевна и сделала. Собрав дома все нужное, она все-таки решила заехать к отцу Серафиму и проститься с ним. Старец, выйдя к ней, ничего еще от нее не услышав, вдруг сказал строго:
— Нет тебе дороги в Муром, матушка, никакой нет дороги, и нет тебе и моего благословения! И что это ты? Ты должна замуж выйти, и у тебя преблагочестивейший жених будет, радость моя!
Елена Васильевна почувствовала, что не надо ей ехать в Муром. По совету отца Серафима она пожертвовала туда деньги, данные за келлию, и опять заперлась у себя дома в комнате, где уже провела три года отшельницей. Спустя полгода она снова поехала к отцу Серафиму. К ее удивлению, он совершенно спокойно сказал:
— Ну что ж, если уж тебе так хочется, то пойди, вот за двенадцать верст отсюда есть маленькая общинка матушки Агафьи Семеновны, полковницы Мельгуновой. Погости там, радость моя, и испытай себя!
Елена Васильевна, не помня себя от радости, бросилась в Дивеево, и Ксения Михайловна, игумения, дала ей для житья что могла: чуланчик около маленькой келлии, которая выходила крылечком к западной стене Казанского храма… Через месяц отец Серафим вызвал ее к себе и сказал:
— Теперь, радость моя, пора уже тебе и с женихом обручиться.
Елена Васильевна испугалась и с плачем воскликнула:
— Не хочу я замуж, батюшка!
— Ты все еще не понимаешь меня, матушка, — ласково успокоил ее отец Серафим. — Ты только скажи начальнице-то Ксении Михайловне, что убогий Серафим приказал с Женихом тебе обручиться, в черненькую одежку одеться… Ведь вот как замуж-то выйти, матушка! Ведь вот какой Жених-то, радость моя!
Елене Васильевне было тогда двадцать лет.
В этот день много беседовал с ней старец, и она слушала его с благоговением, складывая в сердце свое все слова его. А он говорил:
— Матушка! Виден мне весь путь твой боголюбивый! Тут тебе и назначено жить, лучше этого места нигде нет для спасения; тут матушка Агафия Семеновна в мощах почивает; ты ходи к ней каждый вечер, она тут каждый день ходила, и ты подражай ей также, потому что тебе этим же путем надо идти, а если не будешь идти им, то и не можешь спастись. Ежели быть львом, радость моя, то трудно и мудрено, я на себя возьму; но будь голубем, и все между собою будьте как голубки. Вот и поживи-ка ты тут три-то года голубем; я тебе помогу, вот тебе на то и мое наставление: за послушание читай всегда акафисты и Псалтирь, правило с утренею отправляй. Сиди да пряди, а пусть другая сестра тебе все приготовляет, треплет лен, мыкает мочки, а ты только пряди и будешь учиться ткать. Пусть сестра сидит возле тебя да указывает. Всегда будь в молчании, ни с кем не говори, отвечая только на самые наинужнейшие вопросы, и то «аки с трудом», а станут много спрашивать, отвечай: «Я не знаю». Если случайно услышишь, что кто не полезное между собою говорит, скорее уходи, «дабы не внити во искушение». Никогда не будь в праздности; оберегай себя, чтобы не пришла какая мысль; всегда будь в занятии. Чтобы не впадать в сон, употребляй мало пищи. В среду и пяток вкушай только раз. От пробуждения до обеда читай: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную! — а от обеда до сна: Пресвятая Богородице, спаси нас! Вечером выйди на двор и молись сто раз Иисусу, сто раз Владычице и никому не сказывай, а так молись, чтобы никто того не видал, даже бы и не подумал, и будешь ты аки ангел! И пока Жених твой в отсутствии, ты не унывай, а крепись лишь и больше мужайся; так молитвою, вечнонеразлучною молитвою и приготовляй все, Он и придет ночью тихонько и принесет тебе кольцо, перстенек, как Екатерине-то, великомученице-матушке. Так вот три года и приготовляйся, радость моя, чтобы в три года все у тебя готово бы было. О, какая неизреченная радость-то тогда будет, матушка! Это я о пострижении тебе говорю, матушка; чрез три года постригайся, приуготовив себя, ранее не нужно; а как пострижешься-то, то будет у тебя в груди благодать воздыматься все более и более, а каково будет тогда! Когда Архангел Гавриил, представ пред Божией Матерью, благовестил Ей, то Она немного смутилась и тут же сказала: Се раба Господня! буди мне по глаголу Твоему! Тогда вот и ты скажи так же: Буди мне по глаголу Твоему! Вот о каком браке и Женихе я тебе толкую, матушка; ты слушай меня и никому до времени того не говори, но верь, что все, мною реченное тебе, сбудется, радость моя!
Отец Серафим благословил Михаила Васильевича («Мишеньку») построить для сестры в Дивеевской общине отдельную, но очень небольшую келлийку, где она, одевшись во все монашеское, и стала жить со своей келейницей, крепостной девушкой Устиньей.
В эти же годы монастырского затвора отец Серафим духовно окормлял и другую женскую общину — Ардатовскую. Так же, как и Дивеевская, она не была еще монастырем (впоследствии это будет Покровский Ардатовский монастырь), но насельницы ее жили строгим монашеским уставом, нося черную одежду инокинь. Около 1810 года община купила себе дом и землю в городе Ардатове, неподалеку от собора. Число сестер увеличилось, они сделали пристройку к дому, где были трапезная и молельня. В 1823 году скончалась их настоятельница, основательница общины Васса Димитриевна Полюхова, и старшие сестры приехали к отцу Серафиму просить, чтобы он кого-нибудь из них назначил настоятельницей. Старец, не отвечая им прямо, стал, обращаясь к одной из них, Евдокии Андреевне, объяснять ей обязанности настоятельницы. В другой раз, при точно таких же обстоятельствах, вот что говорил отец Серафим:
— Чадолюбивая матерь не в свое угождение живет, но в угождение детей. Немощи немощных чад сносит с любовию; в нечистоту впадших очищает, омывает тихо-мирно, облачает в ризы белые и новые, обувает, согревает, питает, промышляет, утешает и со всех сторон старается дух их покоить так, чтоб никогда не слышать ей малейшего их вопля, и таковые чада бывают благорасположены к матери своей. Так, всякий настоятель должен жить не в свое угождение, но в угождение подчиненных — должен к слабостям их быть снисходителен, немощи немощных несть с любовию, болезни греховные врачевать пластырем милосердия, падших преступлениями — поднимать с кротостию, замаравшихся скверною какого-либо порока — очищать тихо и омывать их возложением на них поста и молитв сверх определенных обще для всех; одевать учением и примерною жизнию своею в одежды добродетелей, непрестанно бдеть о них, всеми способами утешать их, и со всех сторон ограждать мир их и покой так, чтобы никогда не было слышно ни малейшего их вопля, ниже ропота; и тогда они с ревностию будут стремиться, чтобы доставить мир и покой настоятелю.
Но так как отец Серафим больше занят был Дивеевской общиной, ардатовских сестер иногда отсылал к иеромонаху Илариону, духовнику Саровской обители (он приехал в Саров вместе с игуменом Назарием с Валаама). Отец Иларион охотно помогал отцу Серафиму в окормлении Ардатовской общины и по некоторым случаям выезжал туда.
В дивеевских же делах помогал, кроме «Мишеньки», священник Казанской церкви в Дивееве отец Василий Садовский, который в это время, перед окончанием затвора старца Серафима, был выпущен из Нижегородской Семинарии и назначен сюда. Ему было двадцать четыре года. Отец Серафим стал его духовным руководителем. Он, как о нем вспоминали, был высоко добродетельным, исполненным крепчайшей веры человеком. Впоследствии всю свою жизнь он посвятил Дивеевскому монастырю. При первой же беседе отец Серафим стал просить отца Василия не оставить сестер Дивеевской обители:
— Как нам оставить великое это Божие дело и тех, о коих просила меня, убогого Серафима, матушка Агафья Семеновна! Ведь она была великая жена, святая, смирение ее было неисповедимо, слез источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем нелицемерная! Одежду носила самую простую, и то многошвенную (заплатанную. — Ред.), и опоясывалась кушачком с узелком; а как идет, бывало, то госпожи великие ее ведут под ручки, столь за жизнь свою была всеми уважаема! Так как же нам презреть ее прошения! Я ведь теперь один остался из тех старцев, коих просила она о завещанной ею общинке. Так-то и я прошу тебя, батюшка, что от тебя зависит, и ты не оставь их!
Одна из дивеевских сестер вспоминала, как отец Серафим, передавая ей две большие связки свеч, белых и желтых, говорил в присутствии отца Павла, соседа по келлии:
— Вот, батюшка, смотри, я им даю свеч в воспоминание матушки Александры! Она святая была! Я и сам доныне ее стопы лобызаю! Теперь пока ничего у вас нет, а как Бог благословит, в мощах она у вас будет, тогда все у вас явится, как источник потечет со всех сторон! Народ будет смотреть и удивляться, откуда что возьмется!..
К отцу Серафиму все чаще стали приходить за благословением дивеевские сестры. Некоторые из них жаловались, что у них в общине устав слишком тяжел,— это был данный еще старцем Пахомием матушке Александре суровый устав Саровской пустыни. Отец Серафим соглашался, что для женщин он тяжеловат, не мешало бы облегчить. Однажды он призвал к себе настоятельницу, Ксению Михайловну, и предложил ей принять иной устав, более мягкий. Она же и слышать об этом не хотела:
— Нет, батюшка, пусть будет по-старому; нас уже устроил отец Пахомий.
— Послушайся меня, радость моя!
— Нет и нет, батюшка.
Так и ушла суровая начальница, великая постница и подвижница, себе первой не позволявшая никаких послаблений. И, однако, трудно было в Дивеевской общине новоначальным, особенно принимать пищу один раз в день. А отец Серафим многих туда посылал избранных Божией Матерью сестер, говоря:
— Гряди, чадо, в общинку, здесь поблизости матушки-то полковницы Агафии Семеновны Мельгуновой, к великой рабе Божией и столпу огненному — матушке Ксении Михайловне, она всему тебя научит!..
Отец Серафим начал думать об окончании затвора. Почти весь 1825 год провел он в обители, не выходя из келлии, но принимал всех, кто желал его видеть. Народу было столь много, что невозможно было затворить монастырские ворота, — и шли, и ехали, и весь двор был запружен Серафимовыми гостями.
Составил Виктор АФАНАСЬЕВ
[1] Преподобный Иоанн, игумен Синайской горы, пишет: «Истинный безмолвник, не желая лишиться сладости Божией, так удаляется от всех людей, без ненависти к ним, как другие усердно с ними сближаются».
[2] Отец Серафим носил под рубахой на теле пятивершковый (24,5 см) железный крест, а сверх одежды на груди — медный.